Константин Паустовский — Сказочник (Александр Грин): Сказка. Сказки константин паустовский
Константин Паустовский - Сказочник (Христиан Андерсен): читать сказку для детей, текст онлайн на РуСтих
Мне было всего семь лет, когда я познакомился с писателем Христианом Андерсеном.
Случилось это в зимний вечер, всего за несколько часов до наступления двадцатого столетия. Веселый датский сказочник встретил меня на пороге нового века.
Он долго рассматривал меня, прищурив один глаз и посмеиваясь, потом достал из кармана белоснежный душистый платок, встряхнул им, и из платка вдруг выпала большая белая роза. Сразу же вся комната наполнилась ее серебряным светом и непонятным медленным звоном. Оказалось, что это звенят лепестки розы, ударившись о кирпичный пол подвала, где жила тогда наша семья.
Случай с Андерсеном был тем явлением, которое старомодные писатели называли “сном наяву”. Просто это мне, должно быть, привиделось.
В тот зимний вечер, о котором я рассказываю, у нас в семье украшали елку. По этому случаю взрослые отправили меня на улицу, чтобы я раньше времени не радовался елке.
Я никак не мог понять, почему нельзя радоваться раньше какого-то твердого срока. По-моему, радость была не такая частая гостья в нашей семье, чтобы заставлять нас, детей, томиться, дожидаясь ее прихода.
Но как бы там ни было, меня услали на улицу. Наступило то время сумерек, когда фонари еще не горели, но могли вот-вот зажечься. И от этого “вот-вог”, от ожидания внезапно вспыхивающих фонарей у меня замирало сердце. Я хорошо знал, что в зеленоватом газовом свете тотчас появятся в глубине зеркальных магазинных витрин разные волшебные вещи:
коньки “Снегурка”, витые свечи всех цветов радуги, маски клоунов в маленьких белых цилиндрах, оловянные кавалеристы на горячих гнедых лошадях, хлопушки и золотые бумажные цепи. Непонятно почем, но от этих вещей сильно пахло клейстером и скипидаром.
Я знал со слов взрослых, что этот вечер был совершенно особенный. Чтобы дождаться такого же вечера, нужно было прожить еще сто лет. А это, конечно, почти никому не удастся.
Я спросил у отца, что значит “особенный вечер”. Отец объяснил мне, что этот вечер называется так потому, что он не похож на все остальные.
Действительно, тот зимний вечер в последний день девятнадцатого века не был похож на все остальные. Снег падал медленно и очень важно, и хлопья его были такие большие, что, казалось, с неба слетают на город легкие белые цветы. И по всем улицам слышался глухой перезвон извозчичьих бубенцов.
Когда я вернулся домой, елку тотчас зажгли и в комнате началось такое веселое потрескиванье свечей, будто вокруг беспрерывно лопались сухие стручки акации.
Около елки лежала толстая книга – подарок от мамы. Это были сказки Христиана Андерсена.
Я сел под елкой и раскрыл книгу. В ней было много цветных картинок, прикрытых папиросной бумагой. Приходилось осторожно отдувать эту бумагу, чтобы рассмотреть эти картинки, липкие от краски.
Там сверкали бенгальским огнем стены снежных дворцов, дикие лебеди летели над морем, в котором отражались розовые облака, и оловянные солдатики стояли на часах на одной ноге, сжимая длинные ружья.
Я начал читать и зачитался так, что, к огорчению взрослых, почти не обратил внимания на нарядную елку.
Прежде всего я прочел сказку о стойком оловянном солдатике и маленькой прелестной плясунье, потом – сказку о снежной королеве Удивительная и, как мне показалось, душистая, подобно дыханию цветов, человеческая доброта исходила от страниц этой книги с золотым обрезом.
Потом я задремал под елкой от усталости и жара свечей и сквозь эту дремоту увидел Андерсена, когда он обронил белую розу. С тех пор мое представление о нем всегда было связано с этим приятным сном.
Тогда я еще не знал, конечно, двойного смысла андерсеновских сказок. Я не знал, что в каждой детской сказке заключена вторая, которую в полной мере могут понять только взрослые.
Это я понял гораздо позже. Понял, что мне просто повезло, когда в канун трудного и великого двадцатого века мне встретился милый чудак и поэт Андерсен и научил меня вере в победу солнца над мраком и доброго человеческого сердца над злом. Тогда я уже знал пушкинские слова “Да здравствует солнце, да скроется тьма!” и был почему-то уверен, что Пушкин и Андерсен были закадычными друзьями и, встречаясь, долго хлопали друг друга по плечу и хохотали.
Биографию Андерсена я узнал значительно позже. С тех пор она всегда представлялась мне в виде интересных картин, похожих на рисунки к его рассказам.
Андерсен `всю свою жизнь умел радоваться, хотя детство его не давало для этого никаких оснований. Родился он в 1805 году, во времена наполеоновских войн, в старом датском городе Одензе в семье сапожника.
Одензе лежит в одной из котловин среди низких холмов на острове Фюн. В котловинах на этом острове почти всегда застаивался туман, а на вершинах холмов цвел вереск.
Если хорошенько подумать, на что был похож Одензе, то, пожалуй, можно сказать, что он больше всего напоминал игрушечный город, вырезанный из почернелого дуба.
Недаром Одензе славился своими резчиками по дереву. Один из них средневековый мастер Клаус Берг вырезал из черного дерева огромный алтарь для собора в Одензе. Алтарь этот – величественный и грозный – наводил оторопь не только на детвору, но даже на взрослых.
Но датские резчики делали не только алтари и статуи святых. Они предпочитали вырезать из больших кусков дерева те фигуры, что, по морскому обычаю, украшали форштевни парусных кораблей. То были грубые, но выразительные статуи мадонн, морского бога Нептуна, нереид, дельфинов и изогнувшихся морских коньков. Эти статуи раскрашивали золотом, охрой и кобальтом, причем клали краску так густо, что морская волна не могла в течение многих лет смыть ее или повредить.
По существу эти резчики корабельных статуй были поэтами моря и своего ремесла. Не зря же из семьи такого резчика вышел один из величайших скульпторов девятнадцатого века, друг Андерсена, датчанин Альберт Торвальдсен.
Маленький Андерсен видел замысловатые работы резчиков не только на кораблях, но и на домах Одензе. Должно быть, он знал в Одензе тот старый-престарый дом, где год постройки был вырезан на деревянном толстом щите в рамке из тюльпанов и роз. Там же было вырезано целое стихотворение, и дети выучивали его наизусть. А у башмачников висели над дверью деревянные вывески с изображением орла с двумя головами в знак того, что башмачники всегда шьют только парную обувь.
Отец Андерсена был башмачником, но над его дверью не висело изображение двуглавого орла. Такие
вывески имели право держать только члены цеха башмачников, а отец Андерсена был слишком беден, чтобы платить взносы в цех.
Андерсен вырос в бедности. Единственной гордостью семьи Андерсенов была необыкновенная чистота в их доме, ящик с землей, где густо разрастался лук, и несколько вазонов на окнах.
В них цвели тюльпаны. Их запах сливался с перезвоном колоколов, стуком отцовского сапожного молотка, лихой дробью барабанщиков около казармы, свистом флейты бродячего музыканта и хриплыми песнями матросов, выводивших по каналу неуклюжие барки в соседний залив.
Во всем этом разнообразии людей, небольших событий, красок и звуков, окружавших тихого мальчика, он находил повод для того, чтобы радоваться и выдумывать всякие истории.
В доме Андерсенов у мальчика был только один благодарный слушатель – старый кот по имени Карл. Но Карл страдал крупным недостатком – он часто засыпал, не дослушав до конца какую-нибудь интересную сказку. Кошачьи годы, как говорится, брали свое
Но мальчик не сердился на старого кота Он все ему прощал за то, что Карл никогда не позволял себе сомневаться в существовании колдуний, хитреца Клум-пе-Думпе, догадливых трубочистов, говорящих цветов и лягушек с бриллиантовыми коронами на голове.
Первые сказки мальчик услышат от отца и старух из соседней богадельни. Весь день эти старухи пряли, сгорбившись, серую шесть и бормотали свои нехитрые рассказы. Мальчик переделывал эти рассказы по-своему, украшал их, как бы раскрашивал свежими красками и в неузнаваемом виде снова рассказывал их, но уже от себя богаделкам. А те только ахали и шептали между собой, что маленький Христиан слишком умен и потому не заживется на свете.
Прежде чем рассказывать дальше, надо остановиться на том свойстве Андерсена, о котором я уже вскользь говорил, – на его умении радоваться всему интересному и хорошему, что попадается на каждой тропинке и на каждом шагу.
Пожалуй, неправильно называть это свойство умением. Гораздо вернее назвать его талантом, редкой способностью замечать то, что ускользает от ленивых человеческих глаз.
Мы ходим по земле, но часто ли нам является в голову желание нагнуться и тщательно рассмотреть эту землю, рассмотреть все, что находится у нас под ногами. А если бы мы нагнулись или даже больше – легли бы на землю и начали рассматривать ее, то на каждой пяди мы бы нашли много любопытных вещей.
Разве не интересен сухой мох, рассыпающий из своих кувшинчиков изумрудную пыльцу, или цветок подорожника, похожий на сиреневый солдатский султан? Или обломок перламутровой ракушки-такой крошечный, что из него нельзя сделать даже карманное зеркальце для куклы, но достаточно большой, чтобы бесконечно переливаться и блестеть таким же множеством неярких красок, каким горит на утренней заре небо над Балтикой.
Разве не прекрасна каждая травинка, наполненная пахучим соком, и каждое летучее семечко липы? Из него обязательно вырастет могучее дерево.
Да мало ли что увидишь у себя под ногами! Обо всем этом можно писать рассказы и сказки, – такие сказки, что люди будут только качать головами от удивления и говорить друг другу:
— Откуда только взялся такой благословенный дар у этого долговязого сына башмачника из Одензе? Должно быть, он все-таки колдун.
Детей вводит в мир сказки не только народная поэзия, но и театр. Спектакль дети почти всегда принимают как сказку.
Яркие декорации, свет масляных ламп, бряцанье рыцарских доспехов, гром музыки, подобный грому сражения, слезы принцесс с синими ресницами, рыжебородые злодеи, сжимающие рукоятки зазубренных мечей, пляски девушек в воздушных нарядах – все это никак не походит на действительность и, конечно, может происходить только в сказке.
В Одензе был свой театр. Там маленький Христиан впервые увидел пьесу с романтическим названием “Дунайская дева”. Он был ошеломлен этим спектаклем и с тех пор стал ярым театралом на всю свою жизнь – до самой смерти.
На театр не было денег. Тогда мальчик заменил подлинные спектакли воображаемыми. Он подружился с городским расклейщиком афиш Петером, начал помогать ему, а за это Петер дарил Христиану по одной афише каждого нового спектакля.
Христиан приносил афишу домой, забивался в угол и, прочитав название пьесы и имена действующих лиц, тут же выдумывал свою, захватывающую дух пьесу под тем же названием, которое стояло на афише.
Выдумывание это длилось по нескольку дней. Так создавался тайный репертуар детского воображаемого театра, где мальчик был всем: автором и актером, музыкантом и художником, осветителем и певцом.
Андерсен был единственным ребенком в семье и, несмотря на бедность родителей, жил вольно и беззаботно. Его никогда не наказывали. Он занимался только тем, что непрерывно мечтал. Это обстоятельство даже помешало ему вовремя научиться грамоте. Он одолел ее позже, чем все мальчики его возраста, и до пожилых лет писал не совсем уверенно и делал орфографические ошибки.
Больше всего времени Христиан проводил на старой мельнице на реке Одензе. Мельница эта вся тряслась от старости, окруженная обильными брызгами и потоками воды. Зеленые бороды тины свешивались с ее дырявых лотков. У берегов запруды плавали в ряске ленивые рыбы.
Кто-то рассказал мальчику, что прямо под мельницей на другом конце земного шара находится Китай и что китайцы довольно легко могут прокопать подземный ход в Одензе и внезапно появиться на улицах заплесневелого датского городка в красных атласных халатах, расшитых золотыми драконами, и с изящными веерами в руках.
Мальчик долго ждал этого чуда, но оно почему-то не произошло.
Кроме мельницы, еще одно место в Одензе привлекало маленького Христиана. На берегу канала была расположена усадьба старого отставного моряка. В своем саду моряк установил несколько маленьких деревянных пушек и рядом с ними – высокого, тоже деревянного солдата.
` Когда по каналу проходил корабль, пушки стреляли холостыми зарядами, а солдат палил в небо из деревянного ружья. Так старый моряк салютовал своим счастливым товарищам – капитанам, еще не ушедшим на пенсию.
Несколько лет спустя Андерсен попал в эту усадьбу уже студентом. Моряка не было в живых, но юного поэта встретил среди цветочных клумб рой красивых _и задорных девушек – внучек старого капитана.
Впервые тогда Андерсен почувствовал любовь к одной из этих девушек, – любовь, к сожалению, безответную и туманную. Такими же были все увлечения женщинами, случавшиеся в его беспокойной жизни.
Христиан мечтал обо всем, что только могло прийти ему в голову. Родители же мечтали сделать из мальчика хорошего портного. Мать учила его кроить и шить. Но мальчик если что-либо и шил, то только пестрые платья для своих театральных кукол .( у него уже был свой собственный домашний театр). А вместо кройки он научился виртуозно вырезать из бумаги замысловатые узоры и маленьких танцовщиц, делающих пируэты. Этим своим искусством он поражал всех даже в годы своей старости.
Уменье шить пригодилось впоследствии Андерсену, как писателю. Он так перемарывал рукописи, что на них не оставалось места для поправок. Тогда Андерсен выписывал эти поправки на отдельных листках бумаги и тщательно вшивал их нитками в рукопись – ставил на ней заплатки.
Когда Андерсену исполнилось четырнадцать лет, умер его отец Вспоминая об этом, Андерсен говорил, что всю ночь над умершим пел сверчок, в то время как мальчик всю ночь проплакал
Так под песню запечного сверчка ушел из жизни застенчивый башмачник, ничем не замечательный, кроме того, что он подарил миру своего сына – сказочника и поэта
Вскоре после смерти отца Христиан отпросился у матери и на жалкие сбереженные гроши уехал из Одензе в столицу Копенгаген – завоевывать счастье, хотя он сам еще толком не знал, в чем оно заключалось.
В сложной биографии Андерсена нелегко установить то время, когда он начал писать свои первые прелестные сказки.
С раннего детства его память была полна разных волшебных историй Но они лежали под спудом Юноша Андерсен долго считал себя кем угодно – певцом, танцором, декламатором, поэтом, сатириком и драматургом, но только не сказочником Несмотря на это, отдаленный голос сказки давно слышался то в одном, то в другом из его произведений как звук чуть затронутой, но тотчас же отпущенной струны
Свободное воображение ловит в окружающей нас жизни сотни частностей и соединяет их в стройный и мудрый рассказ. Нет ничего, чем пренебрег бы сказочник, – будь то горлышко пивной бутылки, капля росы на пере, потерянном иволгой, или заржавленный уличный фонарь. Любая мысль – самая могучая и великолепная – может быть выражена при дружеском содействии этих скромных вещей.
Что толкнуло Андерсена в область сказки?
Сам он говорил, что легче всего писат сказки, оставаясь наедине с природой, “слушая ее голос”, особенно в то время, когда он отдыхал в лесах Зеландии, почти всегда окутанных неплотным туманом, дремлющих под слабым мерцанием звезд. Далекий ропот моря, долетавший в чащу этих лесов, придавал им таинственность.
Но мы также знаем, что многие свои сказки Андерсен писал среди зимы, в разгар детских елочных праздников, и придавал им нарядную форму, свойственную елочным украшениям
Что говорить` Приморская зима, ковры снега, треск огня в печах и сияние зимней ночи – все это располагает к сказке. А может быть, толчком к тому, что Андерсен стал сказочником, послужил один случай на улице в Копенгагене.
Маленький мальчик играл на подоконнике в старом копенгагенском доме. Игрушек было не так уж много – несколько кубиков, старая бесхвостая лошадь из папье-маше, много раз уже выкупанная и потому потерявшая масть, и сломанный оловянный солдатик.
Мать мальчика – молодая женщина – сидела у окна и вышивала.
В это время в глубине пустынной улицы со стороны Старого порта, где усыпительно покачивались в небе реи кораблей, показался высокий и очень худой человек в черном Он быстро шел несколько скачу^ щей неуверенной походкой, размахивая длинными руками, и говорил сам с собой.
Шляпу он нес в руке, и потому был хорошо виден его большой покатый лоб, орлиный тонкий нос и серые сощуренные глаза.
Он был некрасив, но изящен и производил впечатление иностранца. Душистая веточка мяты была воткнута в петлицу его сюртука.
Если бы можно было прислушаться к бормотанию этого незнакомца, то мы бы услышали, как он чуть нараспев читает стихи:
Я сохранил тебя в своей груди, О, роза нежная моих воспоминаний .
Женщина за пяльцами подняла голову и сказала мальчику.
— Вот идет наш поэт, господин Андерсен. Под его колыбельную песню ты так хорошо засыпаешь.
Мальчик посмотрел исподлобья на незнакомца в черном, схватил своего единственного хромого солдатика, выбежал на улицу, сунул солдатика в р>ку Андерсену и тотчас убежал
Это был неслыханно щедрый подарок. Андерсен понял это. Он воткнул солдатика в петлицу сюртука рядом с веточкой мяты, как орден, потом вынул таток и слегка прижал его к глазам,-очевидно, недаром друзья обвиняли его в чрезмерной чувствительности.
А женщина, подняв голову от вышивания, подумала, как хорошо и вместе с тем трудно было бы ей жить с этим поэтом, если бы она могла полюбить его. Вот говорят, что даже ради молодой певицы Дженни Л\нд, в которую он был влюблен – все звали ее “ослепительной Дженни” – Андерсен не захотел отказаться ни от одной из своих поэтических привычек и выдумок.
А этих выдумок было много. Однажды он даже придумал прикрепить к мачте рыбачьей шхуны эолову арфу, чтобы слушать ее жалобное пение во время угрюмых северо-западных ветров, постоянно дующих в Дании.
Андерсен считал свою жизнь прекрасной и почти безоблачной, но, конечно, лишь в силу детской своей жизнерадостности. Эта незлобивость по отношению к жизни обычно бывает верным признаком внутреннего богатства Таким людям, как Андерсен, нет охоты растрачивать время и силы на борьбу с житейскими неудачами, когда вокруг так явственно сверкает поэзия и нужно жить только в ней, жить только ею и не пропустить то мгновение, когда весна прикоснется губами к деревьям. Как бы хорошо никогда не думать о житейских невзгодах! Что они стоят по сравнению с этой благодатной, душистой весной.
Андерсену хотелось так думать и так жить, но действительность совсем не была милостива к нему, как он того заслуживал.
Было много, слишком много огорчений и обид, особенно в первые годы в Копенгагене, в годы нищеты и пренебрежительного покровительства со стороны признанных поэтов, писателей и музыкантов.
Слишком часто, даже в старости, Андерсену давали понять, что он “бедный родственник” в датской литературе и что ему – сыну сапожника и бедняка – следует знать свое место среди господ советников и профессоров.
Андерсен говорил о себе, что за свою жизнь он выпил не одну чашу горечи Его замалчивали, на него клеветали, над ним насмехались. За что?
За то, что в нем текла “мужицкая кровь”, что он не был похож на спесивых и благополучных обывателей, за то, что он был истинный поэт “божьей милостью”, был беден, и, наконец, за то, что он не умел жить.
Неумение жить считалось самым тяжким пороком в филистерском обществе Дании. Андерсен был просто неудобен в этом обществе – этот чудак, этот, по словам философа Киркегора, оживший смешной поэтический персонаж, внезапно появившийся из книги стихов и забывший секрет, как вернуться обратно на пыльную полку библиотеки.
“Все хорошее во мне топтали в грязь”, – говорил о себе Андерсен. Говорил он и более горькие вещи, сравнивая себя с тонущей собакой, в которую мальчишки швыряют камни, но не из злости, а ради пустой забавы.
Да, жизненный путь этого человека, умевшего видеть по ночам свечение шиповника, похожее на мерцание белой ночи, и умевшего услышать воркотню старого пня в лесу, не был усыпан венками.
Андерсен страдал жестоко, и можно только преклоняться перед мужеством этого человека, не растерявшего на своем житейском пути ни доброжелательства к людям, ни жажды справедливости, ни способности видеть поэзию всюду, где она есть.
Он страдал, но он не покорялся. Он негодовал. Он гордился своей кровной близостью к беднякам – крестьянам и рабочим. Он вошел в “Рабочий союз” и первый из датских писателей начал читать рабочим свои сказки.
Он становился ироничен и беспощаден, когда дело касалось пренебрежения к простому человеку, несправедливости и лжи. Рядом с детской сердечностью в нем жил едкий сарказм. С полной силой он выразил его в своей великой сказке о голом короле.
Когда умер скульптор Торвальдсен, сын бедняка и друг Андерсена, то Андерсену была невыносима мысль, что за гробом великого мастера впереди всгх будет напыщенно шествовать датская знать.
Андерсен написал кантату на смерть Торвальдсена. Он собрал на похороны детей бедняков со всего Амстердама. Эти дети шли цепью по сторонам похоронной процессии и пели кантату Андерсена, начинавшуюся словами:
Дорогу дайте к гробу беднякам, – Из их среды почивший вышел сам..
Андерсен писал о своем друге поэте Ингемане, что тот разыскивал семена поэзии на крестьянской земле. С гораздо большим правом эти слова относятся к самому Андерсену. Он собирал зерна поэзии с крестьянских полей, согревал их у своего сердца, сеял в низких хижинах, и из этих семян вырастали и расцветали невиданные и великолепные цветы поэзии, радовавшие сердца бедняков.
Были годы трудного и унизительного учения, когда Андерсену приходилось сидеть в школе за одной партой с мальчиками, бывшими моложе его на много лет.
Были годы душевной путаницы и мучительных поисков своей настоящей дороги. Сам Андерсен долго не знал, какие области искусства сродни его таланту.
“Как горец вырубает ступеньки в гранитной скале,-говорил о себе под старость Андерсен,-так я медленно и тяжело завоевывал свое место в литературе”.
Он толком не знал своей силы, пока поэт Ингемаи не сказал ему шутя: “Вы обладаете драгоценной способностью находить жемчуг в любой сточной канаве”.
Эти слова открыли Андерсену самого себя.
И вот-на двадцать третьем году жизни-вышла первая подлинно андерсеновская книга “Прогулка на остров Амагер”. В этой книге Андерсен решил, наконец, выпустить в мир “пестрый рой своих фантазий”.
Легкий трепет восхищения перед неведомым до тех пор поэтом прошел по Дании. Будущее становилось ясным.
На первый же скудный гонорар от своих книг Андерсен устремился в путешествие по Европе.
Беспрерывные поездки Андерсена можно с полные правом назвать путешествиями не только по земле, но и по своим великим современникам. Потому что, где бы Андерсен ни был, он всегда знакомился со своими любимыми писателями, поэтами, музыкантами и художниками.
Такие знакомства Андерсен считал не только естественными, но просто необходимыми. Блеск ума и таланта великих современников Андерсена наполняли его ощущением собственной силы.
В длительном волнении, в постоянной смене стран, городов, народов и попутчиков, в волнах “дорожной поэзии”, в удивительных встречах и не менее удивительных размышлениях прошла вся жизнь Андерсена.
Он писал всюду, где его заставала жажда писать. Кто сочтет, сколько царапин оставило его острое-торопливое перо на оловянных чернильницах в гостиницах Рима и Парижа, Афин и Константинополя, Лондона и Амстердама!
Я упомянул о торопливом пере Андерсена. Придется на минуту отложить рассказ о его путешествиях, чтобы объяснить это выражение.
Андерсен писал очень быстро, хотя потом долго п придирчиво правил свои рукописи.
Писал же он быстро потому, что обладал даром импровизации. Андерсен был чистым образцом импровизатора.
Импровизация – это стремительная отзывчивость поэта на любую чужую мысль, на любой толчок извне, немедленное превращение этой мысли в потоки образов и гармонических картин Она возможна лишь при большом запасе наблюдений и великолепной памяти
Свою повесть об Италии Андерсен написал как импровизатор. Поэтому он и назвал ее этим словом – “Импровизатор”. И, может быть, глубокая и почтительная любовь Андерсена к Гейне объяснялась отчасти тем, что в немецком поэте Андерсен видел своего собрата по импровизации
Но вернемся к путешествиям Христиана Андерсена.
Первое путешествие он совершил по Каттегату, заполненному сотнями парусных кораблей. Это была очень веселая поездка В то время в Каттегате появились первые пароходы. “Дания” и “Каледония”. Они вызвали ураган негодования среди шкиперов парусных кораблей.
Когда пароходы, надымив на весь пролив, смущенно проходили сквозь строй парусников, их подвергали неслыханным насмешкам. Шкипера посылали им в рупор самые отборные проклятья. Их обзывали “трубочистами”, “дьшовозами”, “копчеными хвостами”) и “вонючими лоханками”. Эта жестокая морская распря очень забавляла Андерсена
Но плавание по Каттегату было не в счет. После него начались “настоящие путешествия” Андерсена. Он много раз объездил всю Европу, был в Малой Азии и даже в Африке
Он познакомился в Париже с Виктором Гюго и великой артисткой Рашель, беседовал с Бальзаком, был в гостях у Гейне. Он застал немецкого поэта в обществе молоденькой прелестной жены-парижанки, окруженной кучей шумных детей. Заметив растерянность Андерсена (сказочник втайне побаивался детей), Гейне сказал
— Не пугайтесь. Это не наши дети. Мы их занимаем у соседей.
Дюма водил Андерсена по дешевым парижским театрам, а однажды Андерсен видел, как Дюма писал
свой очередной роман, то громко переругиваясь с его героями, то покатываясь от хохота
Вагнер, Шуман, Мендельсон, Россини и Лист играли для Андерсена свои вещи Листа Андерсен называл “духом бури над струнами”.
В Лондоне Андерсен встретился с Диккенсом. Они посмотрели друг другу в глаза Андерсен не выдержал, отвернулся и заплакал То были слезы восхищения перед великим сердцем Диккенса
Потом Андерсен был в гостях у Диккенса в его маленьком доме на взморье Во дворе заунывно игол шарманщик-итальянец, за окном в сумерках блеснет огонь маяка, мимо дома проплывали, выходя УЗ Темзы в море, неуклюжие пароходы, а отдаленный берег реки, казалось, горел, как торф, – то дымили лондонские заводы и доки
— У нас полон дом детей, – сказал Диккенс А4-дерсену, хлопнул в ладоши, и тотчас несколько мальчиков и девочек – сыновей и дочерей Диккенса – вбежали в комнату, окружили Андерсена и расцеловали его в благодарность за сказки
Но чаще всего и дольше всего Андерсен быва I в Италии.
Рим стал для него, как и для многих иностранных писателей и художников, второй родиной
Однажды Андерсен проезжал в дилижансе по Италии
Была весенняя ночь, полная крупных звезд В дилижанс село несколько деревенских девушек Было так темно, что пассажиры не могли рассмотреть друг друга Но, несмотря на это, между ними начался шутливый разговор Да, было так темно, что Андерсен заметил только, как поблескивали влажные зубы девушек
Он начал рассказывать девушкам о них самих. Он говорил о них, как о сказочных принцессах Он увлекся Он восхвалял их зеленые загадочные глача, душистые косы, рдеющие губы и тяжелые ресницы
Каждая девушка была по своему прелестна в описании Андерсена и по-своему счастлива.
Девушки смущенно смеялись, но, несмотря на темноту, Андерсен заметил, как у некоторых из них блестели на глазах слезы. То были слезы благодарности доброму и странному попутчику.
Одна из девушек попросила Андерсена, чтобы он описал им самого себя.
Андерсен был некрасив. Он знал это. Но сейчас он изобразил себя стройным, бледным и обаятельным молодым человеком с д^шой, трепещущей от ожидания любви.
Наконец дилижанс остановился в глухом городке, куда ехали девушки. Ночь стала еще темнее. Девушки расстались с Андерсеном, причем каждая горячо и нежно поцеловала на прощанье удивительного незнакомца.
Дилижанс тронулся. Лес шумел за его окнами Фыркали лошади, и низкие итальянские созвездия пылали над головой. И Андерсен был счастлив так, как, может быть, еще никогда не был счастлив в жизни. Он благословлял дорожные неожиданности, мимолетные и милые встречи.
Италия покорила Андерсена. Он полюбил в ней все. каменные мосты, заросшие плющом, обветшалые мраморные фасады зданий, оборванных смуглых детей, померанцевые рощи, “отцветающий лотос” – Венецию, статуи Латерана, осенний воздух, холодноватый и пьянящий, мерцание куполов над Римом, старинные холсты, ласкающее солнце и то множество плодотворных мыслей, которые рождала Италия в его сердце.
Умер Андерсен в 1875 году.
Несмотря на частые невзгоды, ему выпало на долю подлинное счастье быть обласканным своим народом.
Я не перечисляю тут всего, что написал Андерсен. Вряд ли это нужно. Я хотел только набросать беглый облик этого поэта и сказочника, этого обаятельного чудака, оставшегося до самой своей смерти чистосердечным ребенком, этого вдохновенного импровизатора и ловца человеческих душ – и детских и взрослых
Он был поэтом бедняков, несмотря на то, что короли считали за честь пожать его сухощавую руку
Он был простонародным певцом. Вся его жизнь свидетельствует о том, что сокровища подлинного искусства заключены точько в сознании народа и нигч.е больше.
Поэзия насыщает сердце народа подобно тому, как мириады капелек влаги насыщают воздух над Данией. Поэтому, говорят, нигде нет таких широких и ярких радуг, как там.
Пусть же эти радуги почаще сверкают, как многоцветные триумфальные арки, над могилой сказочника Андерсена и над кустами его любимых белых роз.
Читать сказку "Константин Паустовский — Сказочник (Христиан Андерсен)" на сайте РуСтих онлайн: лучшие народные сказки для детей и взрослых. Поучительные сказки для мальчиков и девочек для чтения в детском саду, школе или на ночь.skazki.rustih.ru
Паустовский Константин. Три сказки
 Варя проснулась на рассвете, прислушалась. Небо чуть синело за оконцем избы. Во дворе, где росла старая сосна, кто-то пилил: жик-жик, жик-жик! Пилили, видно, опытные люди: пила ходила звонко, не заедала.
Варя проснулась на рассвете, прислушалась. Небо чуть синело за оконцем избы. Во дворе, где росла старая сосна, кто-то пилил: жик-жик, жик-жик! Пилили, видно, опытные люди: пила ходила звонко, не заедала. Варя выбежала босиком в маленькие сенцы. Там было прохладно от недавней ночи. Варя приоткрыла дверь во двор и загляделась – под сосной с натугой пилили сухую хвою бородатые мужички, каждый ростом с маленькую еловую шишку. Сосновые иглы мужички клали для распилки на козлы, связанные из чисто обструганных щепочек.
Варя выбежала босиком в маленькие сенцы. Там было прохладно от недавней ночи. Варя приоткрыла дверь во двор и загляделась – под сосной с натугой пилили сухую хвою бородатые мужички, каждый ростом с маленькую еловую шишку. Сосновые иглы мужички клали для распилки на козлы, связанные из чисто обструганных щепочек. Пильщиков было четверо. Все они были в одинаковых коричневых армячках. Только бороды у мужичков отличались. У одного была рыжая, у другого – чёрная, как воронье перо, у третьего – вроде как пакля, а у четвёртого – седая.
Пильщиков было четверо. Все они были в одинаковых коричневых армячках. Только бороды у мужичков отличались. У одного была рыжая, у другого – чёрная, как воронье перо, у третьего – вроде как пакля, а у четвёртого – седая.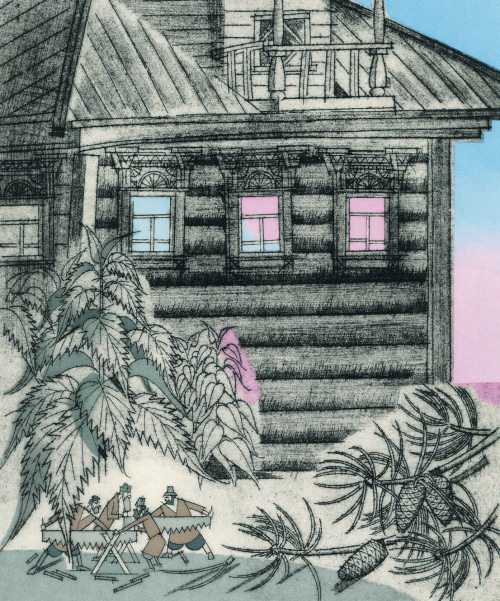 – Здравствуйте! – тихо сказала Варя. – Вы кто же такие будете? Мужички с еловую шишку обернулись, стащили шапки. – Мы дровоколы из Лесного прикола, – ответили они все разом и поклонились Варе в пояс. – Не бранись, хозяюшка, что на твоём дворе пилим. Подрядились мы со здешней жужелицей заготовить ей на зиму дрова, вот и стараемся. – Ну что ж, – сказала Варя ласково, – старайтесь, сколько вам требуется. Мне сухой хвои не жалко. А дед Прохор у меня глуховатый и слепенький, он ничего не узнает. – Вот правильно! – ответил седой мужичок, вытащил из-за пазухи за тесёмку высохший гриб пылевик, отсыпал из него в трубку грибного мелкого табачку и закурил. – Ежели тебе, внучка, по хозяйству чего-нибудь требуется, мы мигом сделаем. У нас артель. Берём мы недорого. – А сколько? – спросила Варя и присела на корточки, чтобы и самой легче было мужичков разглядеть, да чтобы и мужичкам не надо было задирать головы, глядя на Варю. – Это смотря по работе, – охотно ответил рыжий мужичок. – Вот, скажем, требуется тебе забить в брёвнах ходы, что прогрызли жуки-дровосеки. И тех жучков наглухо замуровать, чтобы они не точили избу, – это одна цена. Это работа затруднительная. – А чем затруднительная? – Как чем? Все ходы жучиные надо облазить да залепить их замазкой. Бывают такие ходы, что не продерёшься. Весь армяк изорвёшь, взмокнешь. Шут с ней, с такой работой! За неё надо брать по два ореха на каждого.
– Здравствуйте! – тихо сказала Варя. – Вы кто же такие будете? Мужички с еловую шишку обернулись, стащили шапки. – Мы дровоколы из Лесного прикола, – ответили они все разом и поклонились Варе в пояс. – Не бранись, хозяюшка, что на твоём дворе пилим. Подрядились мы со здешней жужелицей заготовить ей на зиму дрова, вот и стараемся. – Ну что ж, – сказала Варя ласково, – старайтесь, сколько вам требуется. Мне сухой хвои не жалко. А дед Прохор у меня глуховатый и слепенький, он ничего не узнает. – Вот правильно! – ответил седой мужичок, вытащил из-за пазухи за тесёмку высохший гриб пылевик, отсыпал из него в трубку грибного мелкого табачку и закурил. – Ежели тебе, внучка, по хозяйству чего-нибудь требуется, мы мигом сделаем. У нас артель. Берём мы недорого. – А сколько? – спросила Варя и присела на корточки, чтобы и самой легче было мужичков разглядеть, да чтобы и мужичкам не надо было задирать головы, глядя на Варю. – Это смотря по работе, – охотно ответил рыжий мужичок. – Вот, скажем, требуется тебе забить в брёвнах ходы, что прогрызли жуки-дровосеки. И тех жучков наглухо замуровать, чтобы они не точили избу, – это одна цена. Это работа затруднительная. – А чем затруднительная? – Как чем? Все ходы жучиные надо облазить да залепить их замазкой. Бывают такие ходы, что не продерёшься. Весь армяк изорвёшь, взмокнешь. Шут с ней, с такой работой! За неё надо брать по два ореха на каждого. – Два не два, а полтора ореха – верная цена! – примирительно заметил седой мужичок. – Мы, внучка, можем, к примеру, залезть в ходики, почистить всю механику наждаком и протереть тряпицей. За это мы, конечно, берём по соглашению – копеек пять, а то и все шесть. – Что там ни говори, – рассердился рыжий мужичок, – а нет хуже, как собирать муравьиные яйца. Залезешь в муравейник, елозишь там, труха в нос бьёт, а муравьи тебя так и жгут! Так и жгут! Иной как вцепится – не отдёрнешь! – А зачем их собирают, муравьиные яйца? – спросила Варя. – Соловьиная пища. Мы их в город отправляем. На продажу. – У меня, мужики, – сказала Варя, – работа есть, только не знаю, как вы с ней справитесь. Надо бы собрать паучью паутину, самую крепкую, шелковистую, промыть её в дождевой воде, высушить на ночном ветру, пока не погасла утренняя звезда, ссучить из этой паутины пряжу на медной прялке и сплесть из той пряжи поясок. И запрясть в него золотой волос. – Какой волос? – удивились мужички. – Вы покурите, а я вам объясню.
– Два не два, а полтора ореха – верная цена! – примирительно заметил седой мужичок. – Мы, внучка, можем, к примеру, залезть в ходики, почистить всю механику наждаком и протереть тряпицей. За это мы, конечно, берём по соглашению – копеек пять, а то и все шесть. – Что там ни говори, – рассердился рыжий мужичок, – а нет хуже, как собирать муравьиные яйца. Залезешь в муравейник, елозишь там, труха в нос бьёт, а муравьи тебя так и жгут! Так и жгут! Иной как вцепится – не отдёрнешь! – А зачем их собирают, муравьиные яйца? – спросила Варя. – Соловьиная пища. Мы их в город отправляем. На продажу. – У меня, мужики, – сказала Варя, – работа есть, только не знаю, как вы с ней справитесь. Надо бы собрать паучью паутину, самую крепкую, шелковистую, промыть её в дождевой воде, высушить на ночном ветру, пока не погасла утренняя звезда, ссучить из этой паутины пряжу на медной прялке и сплесть из той пряжи поясок. И запрясть в него золотой волос. – Какой волос? – удивились мужички. – Вы покурите, а я вам объясню.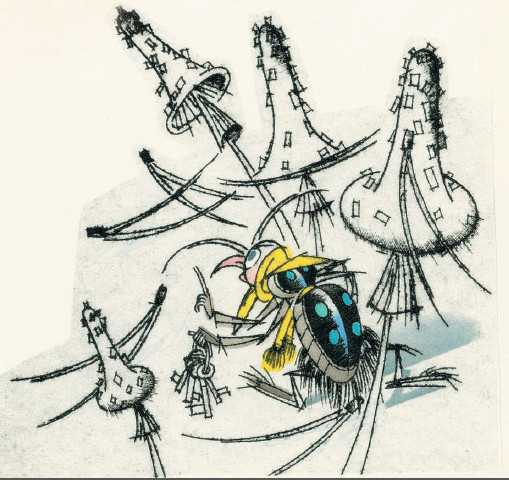 Мужички прислонили звонкие пилы к сосновой шишке, сели на сломанную веточку, как на бревно, вытащили кисеты, трубочки, откашлялись, закурили, приготовились слушать. И рассказала им Варя, как шла она из соседней деревни домой, несла баранки деду Прохору. И встретились ей в лесу два воробья. Они прыгали по осине, наскакивали друг на друга, да так лихо, что с веток дождём сыпались красные листья. Из норы под осиной высунулась лесная мышь, заругалась на воробьёв: «Ах вы, говорит, разбойники! Что же это вы раньше времени сухой лист с дерев обиваете! Совести у вас нисколько нету!»
Мужички прислонили звонкие пилы к сосновой шишке, сели на сломанную веточку, как на бревно, вытащили кисеты, трубочки, откашлялись, закурили, приготовились слушать. И рассказала им Варя, как шла она из соседней деревни домой, несла баранки деду Прохору. И встретились ей в лесу два воробья. Они прыгали по осине, наскакивали друг на друга, да так лихо, что с веток дождём сыпались красные листья. Из норы под осиной высунулась лесная мышь, заругалась на воробьёв: «Ах вы, говорит, разбойники! Что же это вы раньше времени сухой лист с дерев обиваете! Совести у вас нисколько нету!» – Это верно! – заметил мужичок с бородой вроде как пакля. – Лесная мышь палого листа не любит. Как пойдёт по лесам листопад, она из норы не выходит. Сидит трясётся. – Это как понимать? – спросил рыжий мужичок. – Чего ты плетёшь? – Мышь-то по земле бегает? Ай нет? – Ну, бегает. – А ворон или, скажем, коршун над лесом кружит и её караулит. Чтобы схватить и унесть. Караулит ай нет? – Ну, караулит. – Вот и соображай. Летом мышь в траве хоронится, её не видать. А осенью бежит она по сухому листу. Лист трещит, шуршит, шевелится, – её, эту мышь, издали видно. Уж на что ворона дура – и та её сразу изловит. Выходит, значит, что мыши для безопасности надо в норе сидеть, пока не присыплет землю снегом. Она тогда под снегом тропки себе пророет и опять бегает взад-вперёд. Никакой глаз её не приметит. – То-то! – сказал седой мужичок. – У всякого зверя своё соображение. Так, говоришь, внучка, крепко дрались те воробьи? – Прямо ужас как дрались! – вздохнула Варя. – Рвут друг у друга из клюва золотой волосок. А я всё гляжу. Рвали они его, рвали да и уронили. Упал он на пенёк и зазвенел. Схватила я тот волосок, сунула за пазуху – и ну бежать! Ну бежать! Прибегла домой, а дед Прохор и говорит: «Это волосок особенный. За нашими, говорит, пущами да озёрами находится, говорит, дальний край. В том краю вот уже второй год зимы, весны и лета не было, а стоит одна осень. Весь год там, говорит, лес стоит облетелый, чёрный, и что ни день, то льют ненастные дожди. Живёт в той стране, говорит, девушка, по имени Маша, с золотыми косами. Заперта она в горнице, и сторожат её три волка с пуганами и двадцать два барсука с вострыми казацкими пиками. Это, говорит, её волос попал к тебе в руки. И с тем волосом, ежели вплести его в поясок, можно свершить такие чудеса, что и во сне не приснятся».
– Это верно! – заметил мужичок с бородой вроде как пакля. – Лесная мышь палого листа не любит. Как пойдёт по лесам листопад, она из норы не выходит. Сидит трясётся. – Это как понимать? – спросил рыжий мужичок. – Чего ты плетёшь? – Мышь-то по земле бегает? Ай нет? – Ну, бегает. – А ворон или, скажем, коршун над лесом кружит и её караулит. Чтобы схватить и унесть. Караулит ай нет? – Ну, караулит. – Вот и соображай. Летом мышь в траве хоронится, её не видать. А осенью бежит она по сухому листу. Лист трещит, шуршит, шевелится, – её, эту мышь, издали видно. Уж на что ворона дура – и та её сразу изловит. Выходит, значит, что мыши для безопасности надо в норе сидеть, пока не присыплет землю снегом. Она тогда под снегом тропки себе пророет и опять бегает взад-вперёд. Никакой глаз её не приметит. – То-то! – сказал седой мужичок. – У всякого зверя своё соображение. Так, говоришь, внучка, крепко дрались те воробьи? – Прямо ужас как дрались! – вздохнула Варя. – Рвут друг у друга из клюва золотой волосок. А я всё гляжу. Рвали они его, рвали да и уронили. Упал он на пенёк и зазвенел. Схватила я тот волосок, сунула за пазуху – и ну бежать! Ну бежать! Прибегла домой, а дед Прохор и говорит: «Это волосок особенный. За нашими, говорит, пущами да озёрами находится, говорит, дальний край. В том краю вот уже второй год зимы, весны и лета не было, а стоит одна осень. Весь год там, говорит, лес стоит облетелый, чёрный, и что ни день, то льют ненастные дожди. Живёт в той стране, говорит, девушка, по имени Маша, с золотыми косами. Заперта она в горнице, и сторожат её три волка с пуганами и двадцать два барсука с вострыми казацкими пиками. Это, говорит, её волос попал к тебе в руки. И с тем волосом, ежели вплести его в поясок, можно свершить такие чудеса, что и во сне не приснятся». Кто-то хихикнул у Вари за спиной. Варя обернулась и увидела старую толстую жужелицу. Она пищала от смеха и вытирала лапкой слезящиеся глаза. – Ты чего смеёшься? – рассердилась Варя. – Ай не веришь? Жужелица перевела дух, перестала смеяться. – Уж истинно говорят, что старый – дурее, чем малый. Чего только твой дед не выдумает. Помирать ему время, а у него на уме одно баловство. – Дед Прохор зря говорить не станет, – ответила Варя. – Ты не вправе на деда ругаться. – А ты вправе, – зашипела жужелица, – пильщикам моим памороки[1] забивать своими побасками[2]! Ишь расселись, уши развесили! Я им плачу подённо по три ячменных зерна на душу, а они тут разговорами прохлаждаются! Нашлись господа! – Как три зерна?! – закричал рыжий мужичок. – Мы рядились за четыре. Это, братцы, обман! На это мы не согласные! – Не согласные! – закричали все мужички.
Кто-то хихикнул у Вари за спиной. Варя обернулась и увидела старую толстую жужелицу. Она пищала от смеха и вытирала лапкой слезящиеся глаза. – Ты чего смеёшься? – рассердилась Варя. – Ай не веришь? Жужелица перевела дух, перестала смеяться. – Уж истинно говорят, что старый – дурее, чем малый. Чего только твой дед не выдумает. Помирать ему время, а у него на уме одно баловство. – Дед Прохор зря говорить не станет, – ответила Варя. – Ты не вправе на деда ругаться. – А ты вправе, – зашипела жужелица, – пильщикам моим памороки[1] забивать своими побасками[2]! Ишь расселись, уши развесили! Я им плачу подённо по три ячменных зерна на душу, а они тут разговорами прохлаждаются! Нашлись господа! – Как три зерна?! – закричал рыжий мужичок. – Мы рядились за четыре. Это, братцы, обман! На это мы не согласные! – Не согласные! – закричали все мужички. – Подумаешь, какие самостоятельные! – пропищала жужелица. – От горшка три вершка, в дождь все четверо под одним грибом прячетесь, а шумите будто полномерные мужики!
– Подумаешь, какие самостоятельные! – пропищала жужелица. – От горшка три вершка, в дождь все четверо под одним грибом прячетесь, а шумите будто полномерные мужики!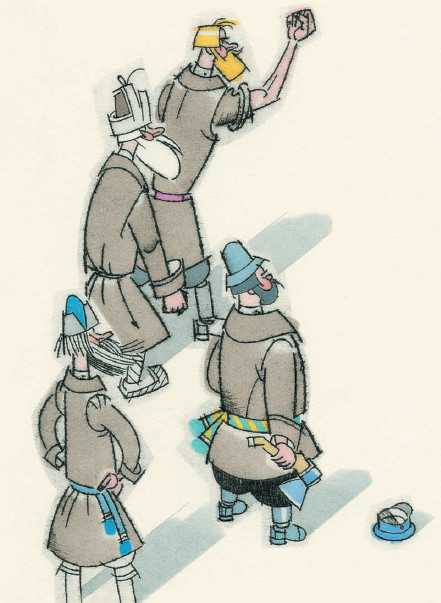 – Ох, старуха! – покачал головой седой мужичок. – Небось каждый день молишься, поклоны перед иконой бьёшь, а пот с рабочих людей выжимаешь. Рыжий мужичок сплюнул, сорвал в сердцах шапку, швырнул её на землю, засучил рукава армячка и подступил к жужелице. – Уйди, – сказал он, – покеда я не тряханул тебя по-своему! Сквалыга! – Это ты-то? – Я-то! – Меня? Жужелицу? – А то кого же? – Ты, брат, смотри! – Ты сама смотри! Уйдёшь? Ай нет? – Ну, ну, не замахивайся!
– Ох, старуха! – покачал головой седой мужичок. – Небось каждый день молишься, поклоны перед иконой бьёшь, а пот с рабочих людей выжимаешь. Рыжий мужичок сплюнул, сорвал в сердцах шапку, швырнул её на землю, засучил рукава армячка и подступил к жужелице. – Уйди, – сказал он, – покеда я не тряханул тебя по-своему! Сквалыга! – Это ты-то? – Я-то! – Меня? Жужелицу? – А то кого же? – Ты, брат, смотри! – Ты сама смотри! Уйдёшь? Ай нет? – Ну, ну, не замахивайся!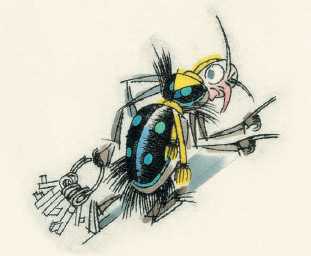 Жужелица пискнула от злости и побежала к старому пню – там у неё была нора. На бегу она обернулась, крикнула: – Я этого вам не забуду! Раскаетесь! – Сама себе дрова пили за три ячменных зерна. Богомолка! Седой мужичок только покачал головой. – Вот мы с жужелицей и разругались. Значит, свободно теперь с тобой можем рядиться, внуча. Рассказывай, в чём твоё дело. – А мне что рассказывать! – заспешила Варя.– Дед Прохор говорит, что крепко голодует народ в той стране. – Известно! – согласился мужичок с чёрной бородой. – Как не голодовать! Что от такой осени проку? Всё помокло, погнило. А новое не родится. – Палым листом тоже несладко питаться, – добавил рыжий мужичок. – Вот беда! – вздохнул мужичок с бородой вроде как пакля. – Пропадают, значит, людишки! – Ох и пропадают! – вздохнула Варя.– Ох и пропадают, дяденька! Как капустные черви. А всё почему? Потому что тамошние мужики вольные да справедливые. Пришёл к ним из соседней заморской страны властелин. Рыжий, злой, гугнивый[3]. И глаз у него от винища красный. Пришёл со своим поганым войском. И хотел взять тех мужиков под свою руку. А они не поддались. Тогда властелин этот самый осерчал ужасно, разругался, растопался. «Я, кричит, вас уморю!»
Жужелица пискнула от злости и побежала к старому пню – там у неё была нора. На бегу она обернулась, крикнула: – Я этого вам не забуду! Раскаетесь! – Сама себе дрова пили за три ячменных зерна. Богомолка! Седой мужичок только покачал головой. – Вот мы с жужелицей и разругались. Значит, свободно теперь с тобой можем рядиться, внуча. Рассказывай, в чём твоё дело. – А мне что рассказывать! – заспешила Варя.– Дед Прохор говорит, что крепко голодует народ в той стране. – Известно! – согласился мужичок с чёрной бородой. – Как не голодовать! Что от такой осени проку? Всё помокло, погнило. А новое не родится. – Палым листом тоже несладко питаться, – добавил рыжий мужичок. – Вот беда! – вздохнул мужичок с бородой вроде как пакля. – Пропадают, значит, людишки! – Ох и пропадают! – вздохнула Варя.– Ох и пропадают, дяденька! Как капустные черви. А всё почему? Потому что тамошние мужики вольные да справедливые. Пришёл к ним из соседней заморской страны властелин. Рыжий, злой, гугнивый[3]. И глаз у него от винища красный. Пришёл со своим поганым войском. И хотел взять тех мужиков под свою руку. А они не поддались. Тогда властелин этот самый осерчал ужасно, разругался, растопался. «Я, кричит, вас уморю!»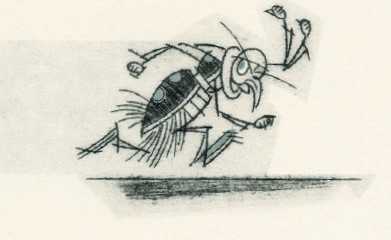 А в той стране в ту пору гостила осень. С виду она вроде как наша деревенская девушка, и зовут её Машей. Волосы у неё золотые-золотые, и ходит она в безрукавке на беличьем меху. Время уже шло к зиме, пора было осени уходить в другие страны, пора было уступить место старухе зиме, да не тут-то было! Приказал властелин своей страже схватить Машу, никуда не выпускать из той страны и запереть её в крепкой избе на долгие годы. «Пусть, говорит, этот строптивый народ поживёт у меня без зимы, весны и лета, без произрастания хлебов да без урожая. Небось, говорит, через два-три года смирятся, станут мне в ноги кланяться, прощения просить».
А в той стране в ту пору гостила осень. С виду она вроде как наша деревенская девушка, и зовут её Машей. Волосы у неё золотые-золотые, и ходит она в безрукавке на беличьем меху. Время уже шло к зиме, пора было осени уходить в другие страны, пора было уступить место старухе зиме, да не тут-то было! Приказал властелин своей страже схватить Машу, никуда не выпускать из той страны и запереть её в крепкой избе на долгие годы. «Пусть, говорит, этот строптивый народ поживёт у меня без зимы, весны и лета, без произрастания хлебов да без урожая. Небось, говорит, через два-три года смирятся, станут мне в ноги кланяться, прощения просить». – Та-ак! – пробормотал седой старичок. – Значит, в темнице она, осень. – Освободить её надо, – сказала Варя. – Это мы и без тебя понимаем! – закричал рыжий мужичок. – Ослобонить! Какая шустрая нашлась. Вот ты сама пойди и ослобони. Только как? – Дед Прохор сказал, что надо бы сплесть из паутины поясок с золотым волосом и доставить его Маше. Как она его наденет, тут же волки падут на землю, издохнут, а барсуки друг дружку пиками переколют. Вот я и надумала: не взялась бы ваша артель за это дело? Уж очень вы неприметные. Вам даже во вьюшку влезть ничего не стоит.
– Та-ак! – пробормотал седой старичок. – Значит, в темнице она, осень. – Освободить её надо, – сказала Варя. – Это мы и без тебя понимаем! – закричал рыжий мужичок. – Ослобонить! Какая шустрая нашлась. Вот ты сама пойди и ослобони. Только как? – Дед Прохор сказал, что надо бы сплесть из паутины поясок с золотым волосом и доставить его Маше. Как она его наденет, тут же волки падут на землю, издохнут, а барсуки друг дружку пиками переколют. Вот я и надумала: не взялась бы ваша артель за это дело? Уж очень вы неприметные. Вам даже во вьюшку влезть ничего не стоит.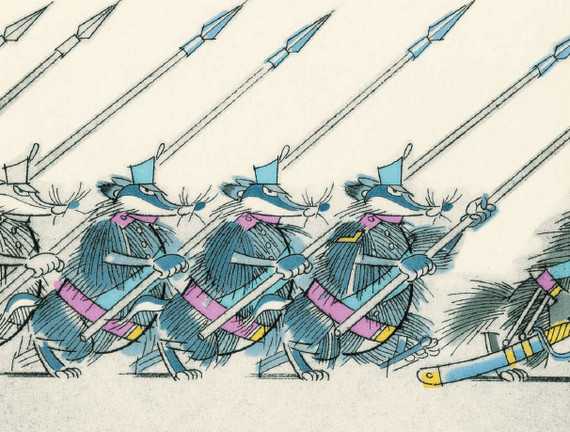 Седой мужичок встал, снял шапку, спросил: – Ну что ж, артель? Соглашаемся? – Соглашаемся! – закричали все мужички. – На своих харчах? – На своих. – Тогда передохнём малость, заправимся и пойдём.
Седой мужичок встал, снял шапку, спросил: – Ну что ж, артель? Соглашаемся? – Соглашаемся! – закричали все мужички. – На своих харчах? – На своих. – Тогда передохнём малость, заправимся и пойдём. Варя провела мужичков в пустой улей, валявшийся позади избы, и для первого дня принесла им туда хозяйский полдник – горсть жареного овса и кусочек творогу. Мужички сытно, не торопясь, поели, потом разулись, улеглись поспать перед трудным делом. Укрылись армячками и так захрапели, что даже шмели притихли и начали слушать: что это за гуд такой несётся из улья? Уж не враг ли какой туда забрался и точит на оселке еловые иглы, чтобы теми иглами с ними, со шмелями, биться? Шмели послушали-послушали и полетели в сосновый бор прятаться на всякий случай в трухлявые пни. Вечером, когда дед Прохор уснул, мужички смотали паутину, что висела в амбаре и в сенцах, промыли её в бадейке с дождевой водой, просушили на ветру, пока не погасла на рассветном небе утренняя звезда, ссучили из той паутины пряжу на медной прялке и сплели поясок. И пропустили через него золотой волос. – Испытать бы надо поясок, – сказали мужички Варе. – Чтобы конфуза не получилось. – Ой, мужички! – испугалась Варя. – Да как же его испытаешь! Дед Прохор говорит, что в наших человечьих руках тот поясок только два чуда может сделать, не более. Потом он силу теряет. А в Машиных руках он опять силу наберёт и всё сделает. – А нам от него много не требуется, – ответили мужички. – В осенний край самый близкий путь через великое болото. Да сама знаешь, там не пройдёшь. Кругом трясины. Они даже нашего брата засасывают, хотя и весу в нас всего ничего. Ты дойди с нами до болота, попроси поясок, чтобы он мост для нас через то болото построил. Раз построит – значит, сила в нём есть. А не построит – значит, и силы в нём нету. И нечего нам тогда в тот осенний край соваться. Только Маше досадим и себя погубим. – Ну, так и быть! – согласилась Варя. – Пойдёмте!
Варя провела мужичков в пустой улей, валявшийся позади избы, и для первого дня принесла им туда хозяйский полдник – горсть жареного овса и кусочек творогу. Мужички сытно, не торопясь, поели, потом разулись, улеглись поспать перед трудным делом. Укрылись армячками и так захрапели, что даже шмели притихли и начали слушать: что это за гуд такой несётся из улья? Уж не враг ли какой туда забрался и точит на оселке еловые иглы, чтобы теми иглами с ними, со шмелями, биться? Шмели послушали-послушали и полетели в сосновый бор прятаться на всякий случай в трухлявые пни. Вечером, когда дед Прохор уснул, мужички смотали паутину, что висела в амбаре и в сенцах, промыли её в бадейке с дождевой водой, просушили на ветру, пока не погасла на рассветном небе утренняя звезда, ссучили из той паутины пряжу на медной прялке и сплели поясок. И пропустили через него золотой волос. – Испытать бы надо поясок, – сказали мужички Варе. – Чтобы конфуза не получилось. – Ой, мужички! – испугалась Варя. – Да как же его испытаешь! Дед Прохор говорит, что в наших человечьих руках тот поясок только два чуда может сделать, не более. Потом он силу теряет. А в Машиных руках он опять силу наберёт и всё сделает. – А нам от него много не требуется, – ответили мужички. – В осенний край самый близкий путь через великое болото. Да сама знаешь, там не пройдёшь. Кругом трясины. Они даже нашего брата засасывают, хотя и весу в нас всего ничего. Ты дойди с нами до болота, попроси поясок, чтобы он мост для нас через то болото построил. Раз построит – значит, сила в нём есть. А не построит – значит, и силы в нём нету. И нечего нам тогда в тот осенний край соваться. Только Маше досадим и себя погубим. – Ну, так и быть! – согласилась Варя. – Пойдёмте! Мужички туже затянули пояса, в последний раз покурили и пошли. Варя шла впереди, а мужички за ней следом, чтобы она, не ровён час, не наступила на кого-нибудь из них. Мужички шагали шибко, только обходили кусты брусники да ныряли под папоротники. На самой заре подошли к болоту. Варя вынула поясок, повязалась им, попросила: – Поясок, милый дружок, построй через болото мосток! Не успела она сказать эти слова, как вынырнули из ржавой воды зелёные лягушата. Было их великое множество – может быть, тысяча, а то и все три. Лягушата растянулись цепью через болото, прижались друг к дружке, подставили спинки и кричат: – Шагайте, мужички, смело! Мы вас не утопим! – Ну что ж! – сказали Варе мужички. – Мы, пожалуй, пойдём. А тебе придётся тут дожидаться. Давай нам поясок и прощай!
Мужички туже затянули пояса, в последний раз покурили и пошли. Варя шла впереди, а мужички за ней следом, чтобы она, не ровён час, не наступила на кого-нибудь из них. Мужички шагали шибко, только обходили кусты брусники да ныряли под папоротники. На самой заре подошли к болоту. Варя вынула поясок, повязалась им, попросила: – Поясок, милый дружок, построй через болото мосток! Не успела она сказать эти слова, как вынырнули из ржавой воды зелёные лягушата. Было их великое множество – может быть, тысяча, а то и все три. Лягушата растянулись цепью через болото, прижались друг к дружке, подставили спинки и кричат: – Шагайте, мужички, смело! Мы вас не утопим! – Ну что ж! – сказали Варе мужички. – Мы, пожалуй, пойдём. А тебе придётся тут дожидаться. Давай нам поясок и прощай! Варя отдала мужичкам поясок, и они ушли, даже ни разу не оглянулись. Да куда там оглядываться, когда надо смотреть под ноги, чтобы не поскользнуться на мокром лягушонке и не ухнуть с головой в трясину. Мужички ушли, а Варя осталась. Ждала она мужичков до вечера, а их всё нет и нет. Варя испугалась: уж не пропали ли мужички, не нарвались ли они на волков да барсуков и те их всех до одного перекололи?
Варя отдала мужичкам поясок, и они ушли, даже ни разу не оглянулись. Да куда там оглядываться, когда надо смотреть под ноги, чтобы не поскользнуться на мокром лягушонке и не ухнуть с головой в трясину. Мужички ушли, а Варя осталась. Ждала она мужичков до вечера, а их всё нет и нет. Варя испугалась: уж не пропали ли мужички, не нарвались ли они на волков да барсуков и те их всех до одного перекололи? Варя подумала-подумала и рассказала деду Прохору всё, что случилось. – Эх ты, глупенькая! – сказал дед Прохор.– Да нешто твои мужички с еловую шишку с таким делом сладят? Они же махонькие, маломерные. Заместо силы у них одна незаметность. Наверняка стража их поймала. Пропали тогда эти отчаянные мужички, да и Маше худо придётся.
Варя подумала-подумала и рассказала деду Прохору всё, что случилось. – Эх ты, глупенькая! – сказал дед Прохор.– Да нешто твои мужички с еловую шишку с таким делом сладят? Они же махонькие, маломерные. Заместо силы у них одна незаметность. Наверняка стража их поймала. Пропали тогда эти отчаянные мужички, да и Маше худо придётся. thelib.ru
Константин Паустовский - Старый челн: читать сказку для детей, текст онлайн на РуСтих
Поезд остановился. Стало слышно, как гудит шмель, запутавшийся в оконной занавеске.– Какая станция? – спросил из купе сонный голос.– Стоим в пути, – ответил проводник.Он торопливо шел через вагон и вытирал паклей руки.Наташа высунулась из окна. От высокой насыпи до самого горизонта тянулся лес. Над ним, закрывая половину неба, стояла глухая туча. Стаи белых птиц метались перед ней, как хлопья одуванчика.Гром громыхнул за краем земли и неуклюже покатился над лесом. Гром ворчал так долго, что, казалось, он обегает кругом всю огромную землю. Он затихал, когда запутывался в чаще, но, выбравшись на просеки и поляны, гремел еще угрюмее, чем раньше.– Какая гроза! – сказал кто-то за спиной у Наташи.Она оглянулась: в дверях купе стоял ее попутчик – молодой режиссер.– Какая гроза! Как здорово сделано! – повторил он, всматриваясь в грозовое небо с таким видом, будто оно было театральной постановкой. – Вы не знаете, что это за птицы?– Не знаю, – ответила Наташа.– Это діщие голуби, – сказал пожилой лесничий в роговых очках и улыбнулся Наташе. – Как же вы не знаете! А еще десятиклассница!– Я горожанка, – ответила Наташа и смутилась.
Поезд вздрогнул и пополз назад. Сразу стемнело. Внезапно ветер рванул занавески и опрокинул стакан с цветами на столике. На пол звонко полилась вода.
Вдоль окон блеснула молния. Тотчас в лесу что-то страшно и сухо треснуло, будто сломалась большая сосна.
– Что случилось? – спросила плачущим голосом сухая маленькая женщина в лиловой пижаме. Ее щебечущая красота исчезла с первым же раскатом грома.
Пассажиры торопливо подымали окна, смотрели на тучу. Молнии открывали в ней зловещие пещеры, воронки вихрей, мутные космы дождя. Огромные материки из черного пепла и седой золы валились на землю, наглухо затягивали небо. В страшной черноте все вспыхивала и вспыхивала в блеске молний одна и та же белая сухая береза. Было непонятно, почему этот беглый свет вырывает из темноты только эту березу, когда вокруг нее шумят под ветром тысячи других деревьев.
– Проводник, что же, наконец, случилось? – крикнула женщина в лиловой пижаме. – Почему мы идем назад?
– Путь впереди размыло, – угрюмо ответил проводник. – Видите. Какая гроза! Подают на Синезерки. Там будем стоять, пока не починят.
– Безобразие! – сказала маленькая женщина, испуганно зажмурила глаза и захлопнула дверь купе.
Мертвый лес вздрогнул от мутного блеска и оказался живым: ветки, похожие на черные рваные рукава, дрожали от ветра и были вытянуты в одну сторону – к последнему просвету под низким пологом туч. Деревья будто цеплялись за уходящее чистое небо и звали на помощь.
По крыше вагона тяжело зашумел проливной дождь.
– «Молньи стремителен бег, и разит она тяжким ударом», – неожиданно сказал лесничий.
Режиссер усмехнулся одними глазами.
– Откуда это? – спросила Наташа.
– Из Лукреция, – ответил лесничий и покраснел.
По всему было видно, что лесничий и счастлив и смущен. Он был счастлив потому, что ехал в отпуск в Крым, где не был с детства. В памяти остались обрывистые мысы, заросшие колючками, и плывущий к их подножию откуда-то из страшной дали никогда не затихающий плеск воды.
Смущали его попутчики. Смущала их подчеркнутая вежливость с ним, пижамы, разговоры о курортной жизни. Они вели их друг с другом, никогда не обращаясь к нему. Когда они небрежно говорили о гостиницах, портье и ресторанах, он чувствовал, что до него, лесничего, надевшего в дорогу новый серый костюм, им нет никакого дела. Они были проницательны, эти попутчики, и, казалось, знали, что костюм у него единственный и сшит посредственным портным из Костромы. Он берег его и завидовал режиссеру. Развалясь на диване, засунув бледные руки в карманы тончайших брюк, режиссер курил папиросы «Элит» и ничуть не заботился о том, что его расстегнутый пиджак мнется, а табачный пепел осыпает завязанный вольным узлом ослепительный галстук.
Единственным попутчиком, не смущавшим лесничего, была Наташа – застенчивая худенькая девушка. У нее вес время от ветра из окон растрепывались волосы и по нескольку раз в день попадали в глаза песчинки.
Однажды лесничий помог ей вынуть песчинку из глаза, но тоже смутился, когда Наташа протянула ему для этого прозрачный, слабо надушенный носовой платок.
«Лесовик! – подумал о себе лесничий. – Чертов провинциал!»
– Какое славное название – Синезерки… – пробормотал режиссер. – Синезерки! Синезерки! Синие озера. Это надо запомнить.
– Здесь много озер, в этих лесах, – сказал лесничий.
– А вы знаете эти места?
– Да так, немного… Лет пятнадцать назад я здесь работал: сажал лес.
– А-а, это интересно! – протянул режиссер, но по его лицу лесничий понял, что это никому не интересно. – Нам чертовски не везет. Что стоило грозе разразиться здесь не сегодня, а завтра!
– Да, действительно досадно, – согласился лесничий.
Ои думал, что вот уже давно собирается съездить в Синезерки, на старые места, но все никак не соберется. Вот и теперь поезд простоит в Синезерках час-два, пока не починят путь, и, кроме знакомой пустынной станции, где по платформе бродят занятые своим делом куры, он ничего не увидит.
– Да, жаль! – вздохнул лесничий.
Наташа тоже волновалась. В Крыму она еще не была. Он казался ей синим, туманным, пахнущим гвоздикой. Хотелось поскорее увидеть море. Говорили, что оно открывается неожиданно и похоже на высокую тучу.
В Синезерках было безлюдно. В окне у дежурного горела керосиновая лампа. Трудно было понять, наступил ли уже вечер или темнота пришла от дождя.
Дождь стих. Из леса пахло сырыми опилками.
Дед Василий привез на станцию дрова, свалил их, а сейчас перетряхивал в телеге мокрое сено и поглядывал на поезд: «Куда это только шастают люди, взад-вперед, взад-вперед?»
Лошаденка его засунула голову по самые уши в торбу с овсом, торопливо жевала и прислушивалась к бормотанию деда, ждала привычного окрика: «Н-но, дьявол! Заелся на казенных харчах!» После такого окрика оставалось только тяжело вздохнуть и понуро тащить телегу по песчаной дороге обратно на озеро.
Но дед Василий неожиданно бросил вожжи и заторопился к поезду. Он подошел к освещенному окну мягкого вагона и постучал кнутовищем в стекло.
– Петр Матвев! – крикнул он слабым, срывающимся голосом. – А Петр Матвев!
За окном в коридоре стоял лесничий и разговаривал с Наташей. Лесничий всмотрелся в старика и открыл окно.
– Не признаешь? – спросил дед и тонко засмеялся. – А я тебя признал издаля, от телеги. Как привел бог встретиться, скажи на милость!
– Василий! – крикнул лесничий, быстро вышел на площадку, соскочил на песок и обнял старика. – Живешь?
– Живу, – ответил дед, утирая рукавом лицо. – Живу, старюсь. Смерть около топчется, а в сторожку ко мне ей зайти невдомек… Забыл ты нас, Петр Матвев, истинное слово, забыл! А без тебя жизнь наша, прямо скажу, никудышная.
– Чего так? Что у вас неладного?
– Будто ты н не знаешь? – недоверчиво спросил дед. – Будто газет сроду не читал, Петр Матвев?
– А что? Ты говори, не оглядывайся.
– Мне оглядываться не на кого. В нашей-то районной газете сколько раз печатали, – сказал со вздохом дед. – Печатали, печатали, а на поверку выходит: зря старались. Оно и видать; одной письменностью дела не сдвинешь, лес не оборонишь.
– Да ты о чем? – спросил лесничий. – Ты не крути, ты говори прямо. Дед снял шапку и бросил ее на черный от нефти песок:
– Эх, Петр Матвев, Петр Матвев! Лес твой молоденький приказал долго жить.
– Сгорел? – испуганно спросил лесничий.
– Зачем сгорел! Пожару у нас, храни бог, не было. А с этой весны ест его гусеница, ест как по наряду. И сейчас, почитай, уже половину съела, проклятая. Новый лесовод никак не управится. Все ему, видишь ли, ходу не дают, яду не дают, а он бумажки сюда пишет, туда пишет, и как Ни придешь, одни у него слова: «Нет ответу». Так вот и сидим, порты Протираем. «Нет ответу да нет ответу». А лес! – громко сказал дед и всхлипнул. – Лес мы с тобой, Петр Матвев, какой насадили! Сосна к сосне, как красавицы сестры. Ей-богу, верь не верь, а я как войду в него, шапку скину и стою как беспамятный: до чего хорош лес!
Дед поднял шапку, осмотрел ее и нахлобучил на свалявшиеся седые волосы.
– Что же поделаешь, Василий! – сказал лесничий и оглянулся.
На ступеньках вагона стояла Наташа и, наморщив лоб, слушала жалобы деда.
– Когда отец детей кинет без помощи, – сказал горестно дед, – так совесть его корит, а к тому же и судят его народным судом. А дерево что? Дерево безгласное. Дерево кому будет жаловаться? Одному мне, дураку, лесному объездчику.
– Что же делать, Василий? – растерянно спросил лесничий.
– Опыление, – пробормотал дед, не слушая лесничего. – Нынче весной созрела пыльца, задул ветер – и понесло ее по-над озером золотым дымом. В жизни я такой пыльцы не видал.
Дед помолчал.
– Петр Матвев, – сказал он умоляюще и взял лесничего за рукав, – уважь старика: поедем на озеро, поглядим. Ты мне только скажи, чем его спасать, лес-то, и поезжай себе с богом, а я как-нибудь сам управлюсь.
– Чудак! – сказал лесничий. – Да ведь поезд через два-три часа уйдет. Что ты в самом деле придумал!
– Не уйде-ет! – уверенно сказал дед. – Некуда ему идти. Путь на два километра размытый. Завтра в обед уйдет, не ране.
Лесничий снова оглянулся на Наташу. Она все так же, наморщив лоб, смотрела на деда.
– Пойдем к дежурному, – сказал решительно дед. – И ежели есть у него малейшая совесть, он тебе подтвердит. Ну, пойдем!
– Что мне с тобой делать? – рассердился лесничий. – Запутал ты меня своими разговорами.
– Поезжайте, Петр Матвеевич, – сказала неожиданно Наташа. – Успеете.
– Вы думаете, успею? – спросил лесничий, засмеялся и повторил: – Вы думаете, успею?
– А можно и мне поехать с вами? – спросила Наташа.
– Эх, барышня-красавица, товарищ дорогой! – сказал дед и низко поклонился Наташе. – Как же тебя не взять за такое верное слово! Поедем. Пока мы по лесу туда-сюда будем шастать, ты у озера поживи. Озеро у нас с серебряной водой. Нету такого во всем Советском Союзе.
– Ну, пошли к дежурному! – сказал лесничий. – Запутал ты меня, старик, окончательно!
Дежурный сказал, что путь не починят раньше завтрашнего полудня.
Лесничий, дед и Наташа уехали на озеро. Отъезд этот вызвал среди пассажиров неодобрительное недоумение.
Лошаденка тащила телегу не торопясь. Колеса скрипели по заросшим травой темным дорогам. Тишина – она казалась Наташе глубокой, как ночная вода, – стояла С лесах. Только в сирых перелесках изредка кричали спросонок какие-то птицы.
К полуночи тучи ушли, и над вершинами сосен начало переливаться холодными огнями небо. Но Наташа не узнавала звезд: созвездии запутались в ветвях деревьев и потеряли знакомые очертания.
Лесной край, загадочный и огромный как океан, простирался вокруг в сумраке ночи, в запахе прели и мокрой листвы, в остром воздухе никем не потревоженных чащ, в непрерывном мерцании неба. Наташа говорила шепотом, да и дед и лесничий тоже говорили вполголоса.
– Сторонушка наша заповедная, – бормотал, вздыхая, дед. – Леса эти завалились до самого края земли. Нету их лучше на свете.
«Спи-спи! – крикнула где-то над головой проснувшаяся птица. – Спи-спи!»
«Я и так сплю», – подумала Наташа и засмеялась от неожиданного счастья. Ей даже стало холодно от радости и захотелось, чтобы эта ночь шла без конца, чтобы без конца неторопливо постукивала по корням телега, чтобы все глуше, дремучей делался лес.
– Ну, кажись, приехали, – сказал дед.
Стало светлее. Наташа оглянулась и ничего не поняла: звездное небо лежало у самой дороги и тихо плескалось, набегая на невидимый берег.
– Озеро, – сказал лесничий. – Звезд сколько в нем – будто осенью!
Сипло залаяла собака. Телега остановилась около сторожки, под черными ивами. Где-то на насесте всполошились куры. Дед вошел в сторожку, зажег жестяную керосиновую лампу и посветил Наташе и лесничему.
Наташа выпила молока и тотчас уснула на блестящей от старости широкой лавке. Дед положил ей под голову новый армяк.
Проснулась она очень рано. Белое солнце стояло над лесом. В избе никого не было, только черный пес сидел под столом и, с любопытством поглядывая на Наташу, вычесывал блох.
– Как бы не опоздать! – спохватилась Наташа, вскочила и поправила волосы.
Наташа вышла в прохладные сени.
Пес шел за ней и, заискивая, колотил хвостом по ведрам, по сваленным на полу хомутам.
Никого не было. Наташа открыла дверь на крыльцо и только вздохнула. Круглое светлое озеро блестело тут же, рядом, за самым порогом, в едва приметном тумане. В озере отражались леса. Вода у белого прибрежного песка была такая чистая, что казалась легкой, невесомой. В ней спали, пошевеливая хвостами, маленькие серебряные рыбы.
На берег был вытащен серый от старости, рассохшийся челн. Наташа выкупалась в озере, оделась и подошла к челну. На нем еще осталась скамейка. Наташа села на нее. Скамейка была теплая от солнца.
В щелях челна проросли высокие цветы и травы. У самых ног Наташи тройным кустом расцветал розовый кипрей. На носу, где челн был стянут ржавым железным стержнем, рос бессмертник, а сквозь песок на дне челна пробились кукушкины слезы. Сильно и сладко пахло аиром и сосновыми стружками. Черный пес лег около челна и зевнул.
«Л как же поезд?» – подумала Наташа и удивилась: эта мысль не вызвала у нее никакой тревоги.
Так она просидела около часу. Она слышала, как на полянах за озером тихо переговаривались о чем-то своем журавли, потом отчаянно крякнула утка, и снова все стихло.
Первым пришел дед. Он ласково поздоровался с Наташей, сел на песок около челна и сказал:
– Ты насчет поезда не опасайся. Дай вот я покурю, запрягу Мальчика и свезу тебя на станцию. Поклонюсь тебе вслед: езжай, живи на теплых морях в городе Золотые Маковки, наживай счастье.
– А где же Петр Матвеевич?
Дед усмехнулся.
– Сейчас придет. Ему теперь все нипочем.
– А что такое? – испугалась Наташа.
– Расскажет, – ответил дед, выколачивая треснувшую трубку о борт челна. – Ты слушай. Челну этому сколько годов? Не мене, чем мне. Мы с ним одногодки. Смотри, как зарос всяким цветом, всякой травой. Вот это называется по-нашему дрема. – Дед показал на кукушкины слезы: – Ты погляди на него, на цветок: днем дремлет, а как ночь – раскрывается, медом пахнет, и так до утра. Правду сказать, худой челн, свое отслужил. Лесовод намедни приезжал, смеялся; «Ты бы, говорит, Василий, на нем картошку сварил, чего зря дрова валяются». А я думаю: нет, картошку на нем варить срок не вышел, с этим делом погодить надо.
– Жалко? – опросила Наташа.
– Известно, жалко. Ведь ты подумай: истлел вконец, а годится для жизни.
– Как это? – спросила Наташа. – Я не понимаю.
– А чего тут понимать! – рассердился дед. – Челн этот – одна труха, а в каждом пазу цветок тянется. Так вот погляжу на него да нет-нет и подумаю: «Может, и от меня, от старика, тоже для жизни какая-нибудь полезность случится». Вот и стараюсь. Ты седины не бойся. Главное чтобы сердце у тебя было в исправности. Верное я слово сказал или нет?
– Верное, – ответила Наташа и засмеялась.– Ну то-то! Ты моему слову верь!Подошел лесничий. Дед, кряхтя, встал и пошел запрягать Мальчика. Лесничий был суров, смущен. Он спросил Наташу, как она спала, выпила ли утром молока, и замолчал.– Мы не опоздаем? – спросила Наташа.– Да нет, не думаю, – ответил лесничий, покраснел и добавил, не глядя на Наташу: – Дело в том, что я не поеду.Наташа изумленно молчала.– Да, не поеду! – сказал, сердясь, лесничий. – Оказывается, тут такая история… Одним словом, без меня у них может ничего не выйти. Пропадет лес. Сам сажал, знаете, жалко…– Я-то понимаю, – сказала Наташа.– В общем мне здесь, признаться, будет лучше, чем в Крыму. Жаль только: пропала путевка. Ну да что поделаешь! А к вам большая просьба: передайте мой чемодан деду, он привезет.– Ну что ж, – сказала Наташа и вздохнула. – Мне даже завидно.– Но-о. дьявол! – хрипло закричал около сторожки дед. – Заелся на казенных харчах!– Ну что ж, прощайте! – сказала Наташа и робко пожала руку лесничему.
Поезд пронесся по плавному закруглению, и Наташа узнала: вот на этом месте его вчера застала гроза. Вагоны с лязгом пролетели над маленькой чистой рекой. Наташа успела прочесть на доске около моста запыленную надпись: «Река Мошка».Широкая радуга стояла над лесами: там, где-то за озером, шел небольшой дождь.Радуга показалась Наташе входом в заповедные, таинственные края, где хозяйничают Петр Матвеевич и дед и кричат на рассвете журавли.Далеко среди зарослей блеснула светлая вода. Неужели озеро? Наташа высунулась из окна и долго смотрела на блеск воды среди листвы, на радугу, и у нее сжалось сердце: если бы можно остаться здесь до самой осени!Паровоз прощально закричал, и леса начали перебрасывать его короткий крик, унесли в непролазные чащи и неожиданно вернули звонким, многоголосым эхом.
Читать сказку "Константин Паустовский — Старый челн" на сайте РуСтих онлайн: лучшие народные сказки для детей и взрослых. Поучительные сказки для мальчиков и девочек для чтения в детском саду, школе или на ночь.skazki.rustih.ru
Рассказы и сказки Константина Паустовского — Сказочник №13
Рассказы и сказки Паустовского для детей. Полный список произведений.Краткая биография и творчество Паустовского Акварельные краскиАлександр ДовженкоАнглийская бритваАннушкаАртельные мужичкиБарсучий носБеглые встречиБелые кроликиВо глубине РоссииВоронежское лето Горная роса. Из повести “Черное море” Дождливый рассветДорожные разговорыДружище Тобик (О собаке Александра Грина)Дремучий медведьДядя Гиляй (В. А. Гиляровский)Желтый светЖильцы старого домаЗаячьи лапыЗолотой линьЗаботливый цветокИван БунинИсаак ЛевитанКакие бывают дождиКладКолотый сахарКордон “273?Корзина с еловыми шишкамиКот-ворюгаКишатаКружевница НастяМихаил ЛоскутовМещерская сторонаНочь в октябреПачка папиросПоводырьПодарокПоток жизни (Заметки о прозе Куприна)Правая рукаПриказ по военной школеПрощание с летомПохождения жука-носорогаРазливы рек (О Лермонтове на Кавказе)Резиновая лодкаРобкое сердцеРувим ФраерманРучьи, где плещется форельРастрепанный воробейСеквойяСиневаСказочник (Александр Грин, из повести “Черное море”)Сказочник (Христиан Андерсен)СнегСтальное колечкоСтарая рукописьСтарый челнСтекольный мастерТеплый хлебТелеграммаЧерные сети
Читать рассказы других известных авторовЧитать все рассказы и сказки Паустовского.Список произведенийПаустовский Константин Георгиевич.Краткая биография и творчество.
Паустовский Константин Георгиевич (1892 - 1968),писатель-прозаик. Родился 19 мая (31 н.с.) в Москве в Гранатном переулке, в семье железнодорожного статистика.Учился в Киеве в классической гимназии, где были хорошие учителя русской словесности, истории, психологии. Много читал, писал стихи. После развода родителей должен был сам зарабатывать себе на жизнь и ученье, перебивался репетиторством. В 1912 Паустовский закончил гимназию и поступил на естественно-исторический факультет Киевского университета. Через два года перевелся в Московский на юридический факультет. Началась первая мировая война, но Константина Паустовского, как младшего сына в семье (по тогдашним законам) в армию не взяли. Еще в последнем классе гимназии, напечатав свой первый рассказ, Паустовский решает стать писателем, но считает, что для этого надо "уйти в жизнь", чтобы "все знать, все почувствовать и все понять" - "без этого жизненного опыта пути к писательству не было". Паустовский поступает вожатым на московский трамвай, затем санитаром на тыловой санитарный поезд. Тогда он узнал и навсегда полюбил среднюю полосу России, ее города. Паустовский работал на металлургическом Брянском заводе, на котельном заводе в Таганроге и даже в рыбачьей артели на Азовском море. В свободное время начал писать свою первую повесть "Романтики", которая вышла в свет только в 1930-х в Москве. После начала Февральской революции уехал в Москву, Паустовский стал работать репортером в газетах, оказавшись свидетелем всех событий в Москве в дни Октябрьской революции. После революции Константин Паустовский много ездил по стране, бывал в Киеве, служил в Красной Армии, сражаясь "со всякими отпетыми атаманами", уехал в Одессу, где работал в газете "Моряк". Здесь попал в среду молодых писателей, среди которых были Катаев, Ильф, Бабель, Багрицкий и др. Вскоре им снова овладела "муза дальних странствий": живет в Сухуми, Тбилиси, Ереване, пока наконец не возвращается в Москву. Несколько лет Паустовский работает редактором РОСТА и начинает печататься. Первой книгой был сборник рассказов "Встречные корабли", затем повесть "Кара-Бугаз". После выхода в свет этой повести навсегда оставляет службу, и писательство становится его единственной любимой работой. Паустовский открывает для себя заповедную землю - Мещеру, которой обязан многими своими рассказами. Он по-прежнему много ездит, и каждая поездка - это книга. За годы своей писательской жизни он объездил весь Советский Союз. Во время Великой Отечественной войны Константин Паустовский был военным корреспондентом и тоже изъездил много мест. После войны впервые был на Западе: Чехословакия, Италия, Турция, Греция, Швеция и т.д. Встреча с Парижем была для него особенно дорогой и близкой. Паустовский написал серию книг о творчестве и о людях искусства: "Орест Кипренский", "Исаак Левитан" (1937), "Тарас Шевченко" (1939), "Повесть о лесах" (1949), "Золотая роза" (1956) - повесть о литературе, о "прекрасной сущности писательского труда". В последние годы жизни Паустовский работал над большой автобиографической эпопеей "Повесть о жизни". К.Паустовский умер 14 июля 1968 в Тарусе, где и похоронен.------------------------------------------Рассказы и сказки Паустовского.Читаем бесплатно онлайн
Читать рассказы других известных авторовЧитать все рассказы и сказки Паустовского.Список произведений.1-3.su
Константин Паустовский - Михаил Лоскутов: читать сказку для детей, текст онлайн на РуСтих
В тридцатых годах наши писатели вновь открывали давно, но плохо открытую Среднюю Азию. Открывали ее вновь потому, что приход советской власти в кишлаки, оазисы и пустыни представлял собой увлекательное явление.
Спекшийся от столетий -быт стран Средней Азии дал глубокие трещины. На руинах мечетей появляются по весне робкие розовые цветы. Они маленькие, но цепкие и живучие. Новая жизнь так же цепко, как эти цветы, расцветала в выжженных тысячелетних странах и приобретала невиданные формы.
Писать об этом было трудно, но интересно. Самые легкие на подъем и закаленные писатели двинулись в сыпучие пески Кара-Кумов, на Памир, к пышным оазисам Ферганы и синим от изразцов твердыням Самарканда. Среди этих писателей были Николай Тихонов, Владимир Луговской, Козин, Николай Никитин, Михаил Лоскутов и многие другие. И я отдал дань Средней Азии и написал тогда “Кара-Бугаз”.
В это время я познакомился с Лоскутовым.
В тридцатых годах мы особенно много ездили по стране, зимой же, возвратившись в Москву, жили очень дружным и веселым содружеством. Чуть не каждый день мы собирались у писателя Фраермана. Как я жалею сейчас, что не записывал тогда, хотя бы коротко, множество рассказов, услышанных на этих собраниях, множество интересных споров, схваток и смелых литературных планов. Каждый из нас считал своей святой обязанностью читать всем остальным все свои новью вещи.
Очевидно по примеру пушкинского “Арзамаса”, Аркадий Гайдар прозвал эти встречи у Фраермана “Конотопами”.
Раз в месяц устраивался “Большой Конотоп”. На него собиралось человек двадцать писателей. Каждую неделю бывал “Средний Конотоп” и, наконец, каждый вечер “Малый Конотоп”. Его состав был почти неизменным. На нем бывали, кроме хозяина дома Фраермана, Аркадий Гайдар, Александр Роскин, Миша Лос-кутов, Семен Гехт, я, редактор журнала “Наши достижения” Василий Бобрышев, Иван Халтурин, редактор журнала “Пионер” Боб Ивантер.
На “Конотопе” я услышал множество песенок и стихов, сочиненных Гайдаром. Он их никогда не записывал. Теперь почти все эти шутливые стихи забыты. Я помню одно, где Гайдар в очень трогательных тонак предавался размышлениям о своей будущей смерти:
Конотопские женщины свяжут На могилу душистый венок Конотопскре девушки скажут. “Отчего это вмер паренек`”
Стихи кончались жалобным криком:
Ах, давайте машину скорее! Ах, везите меня в “Конотоп”!
Миша Лоскутов появился в этом шумном собрании писателей тихо и молчаливо. Это был очень спокойный, застенчивый, но чуть насмешливый человек.
Он обладал талантом немногословного юмора. Но прежде всего и больше всего он был талантливым, “чертовски талантливым” писателем.
У него было свойство видеть в обыденных вещах те черты, что всегда ускользают от поверхностного или усталого взгляда. Его писательское зрение отличалось необыкновенной зоркостью. Он умел показать в одной фразе внутреннее содержание человека и всю сложность и своеобразие его отношения к жизни.
Мысли его всегда были своими, нигде не взятыми напрокат, необычайно ясными и свежими. Они возникали из “подробностей быстротекущей жизни”, они всегда были основаны на конкретности, на своем виде-РИИ мира. Но вместе с тем они были полны ощущения поэтической сущности жизни даже в тех ее проявлениях, где, казалось, не было месга никакой поэзии.
Жизнь Лоску това была как бы сплошной экспедицией в самые разнообразные области жизни, но больше всего он любил Среднюю Азию. По натуре это был путешественник и тонкий наблюдатель. Если бы существовал на земле еще не открытый и .яе описан-ьыч континент, то Лоскутов первым бы ушел в его опасные и заманчивые дебри. Но ушел бы не с наивной восторженностью и порывом, а спокойно, с выдержкой и опытом подлинного путешественника, – такого, как Пржевальский, Ливингстон или Обручев.
Он умел в самом будничном открывать черты необыкновенного, и это свойство делало его подлинным художником. Для него не было в жизни скучных вещей.
Прочтите в его книге эпизод с грузовой машиной. Она стоит на обочине дороги, мотор у нее работает вхолостую, и кажется, что машина трясется от злости.
Шофер сидит рядом на траве и подозрительно следит за машиной. Проезжие, думая, что у него неполадки с мотором, останавливаются и предлагают помочь. Но шофер мрачно отказывается и говорит:
— Ничего. Она постоит, постоит и пойдет. Это она характер показывает.
Эта простая на первый взгляд и скупо написанная сцена полна большого содержания.
Прежде всего в ней ясно виден неудачник-шофер, мучающийся с этой машиной, как с упрямым и вздорным существом, шофер-труженик, безропотно покрывающий тысячи километров среднеазиатских пространств.
Кроме того, в этом эпизоде заключена мысль об отношении человека к машине именно как к живому существ), заслуживающему то любви, то гнева, то со-халения и требующеуу чисто отцовской заботы Так относятся к машине настоящие рабочие.
Описать тобую машину можно, лишь полюбив ее, как своего верного помощника,-страдая и радуясь вместе с ней
Много таких точных наблюдений разбросано в кни гах Лоскутова, в частности в его “Тринадцатом кара ване”, – наблюдений, вызывающих гораздо более глу бокие мысли, чем это может показаться на первый взгляд, – наблюдений образных, острых, обогащаю щих нас внутренним миром писателя
Достаточно вспомнить описанный Лоскутовым эпизод, как переполошились кочевники, когда по кара-кум ским пескам прошла первая грузовая машина и оста вила два парачлельных узорчатых следа от ко тес На бредшие на эти следы пастухи тотчас же разнесли по пустыне тревожный стух, что ночью по пескам про ползли рядом две испотанские змеи,-пастухи ни разу еще не видели машины Они привыкли точько к следам животных и людей
В книгах Лоскутова много разнообразного позна нательного материала Из них мы впервые узнаем о многом, хотя бы о том, как ведут себя во время па лящего зноя в пустыне самые обыкновенные вещи, – вроде зубной пасты или легких летних туфечь
Лоскутов не успел написать и сотой части того, что Ц] задумал и мог бы написать Он погиб преждевременно в1 и трагически
Его книги говорят не только о том, что мы потеряли ботьшого писателя, не только о том, как богата талантами наша страна, но и о том, как надо крепко беречь каждого талантливого человека.
Читать сказку "Константин Паустовский — Михаил Лоскутов" на сайте РуСтих онлайн: лучшие народные сказки для детей и взрослых. Поучительные сказки для мальчиков и девочек для чтения в детском саду, школе или на ночь.skazki.rustih.ru
Константин Паустовский - Сказочник (Александр Грин): читать сказку для детей, текст онлайн на РуСтих
В старом Крыму провел последние дни своей жизни и умер писатель Грин – Александр Степанович Гриневский.
Грин – человек с тяжелой, мучительной жизнью – создал в своих рассказах невероятный мир, полный заманчивых событий, прекрасных человеческих чувств и приморских праздников. Грин был суровый сказочник и поэт морских лагун и портов. Его рассказы вызывали легкое головокружение, как запах раздавленных цветов и свежие, печальные ветры.
Грин провел почти всю жизнь в ночлежных домах, в грошовом и непосильном труде, в нищете и недоедании. Он был матросом, грузчиком, нищим, банщиком, золотоискателем, но прежде всего – неудачником.
Взгляд его остался наивен и чист, как у мечтательного мальчика. Он не замечал окружающего и жил на облачных, веселых берегах.
Только в последние годы перед смертью в словах и рассказах Грина появились первые намеки на приближение его к нашей действительности.
Романтика Грина была проста, весела, блестяща. Она возбуждала в людях желание разнообразной жизни, полной риска и «чувства высокого», жизни, свойственной исследователям, мореплавателям и путешественникам. Она вызывала упрямую потребность увидеть и узнать весь земной шар, а это желание было благородным и прекрасным. Этим Грин оправдал все, что написал.
Язык его был блестящ. Беру отрывки наугад, открывая страницу за страницей:
«Где-то высоко над головой, переходя с фальцета на альт, запела одинокая пуля, стихла, описала дугу и безвредно легла на песок рядом с потревоженным муравьем, тащившим какую-то очень нужную для него палочку».
«Он слушал игру горниста. Это была странная поэзия солдатского дня, элегия оставленных деревень, меланхолия хорошо вычищенных штыков».
«Зима умерла. Весна столкнула се голой розовой и дерзкой ногой в сырые овраги, где, лежа ничком, в виде мертвенно белых, обтаявших пластов снега, старуха дышала еще в последней агонии холодным паром, но слабо и безнадежно».
Грин хорошо выдумывал старинные матросские застольные песни:
Не шуми, океан, не пугай, Нас земля напугала давно. В южный край – В светлый рай Приплывем все равно!
Он выдумывал и другие песенки – шутливые:Позвольте вам сказать, сказать,Позвольте рассказать,Как в бурю паруса вязать,Как паруса вязать!Позвольте вас на салинг взять,Ах, вас на салинг взять,И в руки мокрый шкот вам дать,Вам шкотик мокрый дать!
В Старом Крыму мы были в доме Грина. Он белел в густом саду, заросшем травой с пушистыми венчиками. В траве, еще свежей, несмотря на позднюю осень, валялись листья ореха. Слабо жужжали последние осы.
Маленький дом был прибран и безмолвен. За окном легкой тучей лежали далекие горы.
Простая и суровая обстановка была скрашена только одной гравюрой, висевшей на белой стене, – портретом Эдгара По.
Мы не разговаривали, несмотря на множество мыслей, и с величайшим волнением осматривали суровый приют человека, обладавшего даром могучего и чистого воображения.
Старый Крым сразу изменился после того, как мы увидели жилище Грина и узнали простую повесть его смерти.
Этот писатель – бесконечно одинокий и не услышанный в раскатах революционных лет – сильно тосковал перед смертью о людях. Он просил привести к нему хотя бы одного человека, читавшего его книги, чтобы увидеть его, поблагодарить и узнать, наконец, запоздалую радость общения с людьми, ради которых он работал.
Но било поздно. Никто не успел приехать в сонный, далекий от железных дорог провинциальный город.
Грин попросил, чтобы его кровать поставили перед окном, и Бее время смотрел на горы. Может быть, их цвет, их синева на горизонте напоминали ему любимое и покинутое море.
Только две женщины, два человека пленительной простоты были с Грином в дни его смерти – жена и ее старуха мать.
Перед уходом из Старого Крыма мы прошли на могилу Грина. Камень, степные цветы и куст терновника с колючими иглами – это было все.
Едва заметная тропинка вела к могиле.
Я подумал, что через много лет, когда имя Грина будет произноситься с любовью, люди вспомнят об этой могиле, но им придется раздвигать миллионы густых веток и мять миллионы высоких цветов, чтобы найти ее серый и спокойный камень.
– Я уверен, – сказал Гарг, когда мы выходили за город на старую почтовую дорогу, – что наше время – самое благодарное из всех эпох в жизни человечества. Если раньше могли быть забытыми мыслители, писатели и поэты, то теперь этого не может быть и не будет. Мы выжимаем ценности прошлого, как виноградный сок, и он превращается в крепкое вино. Этого сока в книгах Грина очень много.
Я согласился с ним.
Мы вышли в горы. Солнце катилось к закату. Его чистый диск коснулся облетевших лесов. Ночь уже шла по ущельям. В сухих листьях шуршали, укладываясь спать, птицы и горные мыши.
Первая звезда задрожала и остановилась в небе, как золотая пчела, растерявшаяся от зрелища осенней земли, плывущей под ней глубоко и тихо.
Я оглянулся и увидел в просвете ущелья тот холм, где была, могила Грина. Звезда блистала прямо над ним.
Читать сказку "Константин Паустовский — Сказочник (Александр Грин)" на сайте РуСтих онлайн: лучшие народные сказки для детей и взрослых. Поучительные сказки для мальчиков и девочек для чтения в детском саду, школе или на ночь.skazki.rustih.ru
Константин Паустовский - Рассказ Конста: читать сказку для детей, текст онлайн на РуСтих
Этот очерк написан в мезонине деревенского дома. Окна открыты, и на свет свечи залетают серые бабочки. Так тихо, что слышно, как внизу, в пустых комнатах, стучат ходики. Далеко на Оке гудит пароход. Деревня спит, в окнах темно. Со двора пахнет сырым тесом.
На стене висит гравированный портрет Гарибальди с его порыжелой подписью. Как он сюда попал? Биографии вещей бывают иногда так же неожиданны, как и биографии человеческие. Я стараюсь восстановить путь этого портрета из Парижа, где он был гравирован, до деревни в средней России.
На портрете нет подписи гравер«, но с оборотной стороны гравюра заклеена французской газетой. Я догадываюсь: бывший владелец этого деревенского дома, давно умерший художник, долго жил в Париже, бывал в Буживале у Тургенева, знал Виардо и, очевидно, встречался с Гарибальди.
Гарибальди! Небо Италии, поход на Рим, воздух, пропитанный запахом масличной коры, страна мечтаний, поэм и нищеты!
Гарибальди живет здесь, в тесной комнате, рядом с бронзовым барельефом работы Федора Толстого «Бой при Фэршампенуазе». Если посмотреть вечером из сада в окна мезонина, то комната с портретом Гарибальди покажется слабо освещенной каютой, затерянной в океане непроглядной ночи.
На днях я уеду в Москву – последний обитатель большого пустующего дома, – а все вещи: и барельеф, и портрет Гарибальди, и старая лампа с рисунком водяной мельницы, и стол, и букет иван-чая – все это безропотно останется здесь зимовать. И так странно, вернувшись через год, увидеть все эти вещи на тех же местах и, увидев, понять, что год прибавил седины и опыта, а здесь все неизменно, и только, может быть, гравюра стала чуть-чуть желтее.
Я стараюсь представить себе эту комнату в то время, когда меня уже здесь не будет. Медленно потянутся дни, долго будет моросить дождь. Ветер завалит крышу палыми, покоробленными листьями. А потом мороз схватит сырые пески, выпадет снег, сизое небо провиснет над домом и так и провисит до весны.
Цветы иван-чая промерзнут, превратятся в бурый пепел и разлетятся пылью, как только весной откроют двери. Высохший чудесный мир! Об этом можно судить, только рассмотрев эти цветы через увеличительное стекло, – в них все целесообразно и выработано. Этот сухой букет, который выбросят в мусорную кучу, так же сложен, как и вся земля с растениями, водами и воздухом, окутывающим ее прозрачной сферой.
Вещи усиливают ощущение времени. Часто они живут дольше нас«Иногда хочется жить столько же, сколько переживет этот портрет Гарибальди.
Самое ощущение нашей жизни как чего-то единственного и удивительного растворяет в себе разочарования, потери и проблески неполного счастья. Может быть, задачей писателей, поэтов и художников и является прославление жизни как самого прекрасного и разумного, что существует под солнцем.
Давно известно, что прелесть жизни не только в ожидании будущего и в настоящем, но отчасти и в воспоминаниях. Часто воспоминание сродни выдумке, творчеству. Кто из нас, вспоминая, не придает пережитому черты несбывшегося? Кто, вспоминая, не оставляет в памяти только сущность пережитого?
Воспоминания – это не пожелтевшие письма, не старость, не засохшие цветы и реликвии, а живой, трепещущий, полный поэзии мир.
Весь этот разговор – только затянувшееся предисловие к тому, чтобы вспомнить и представить себе то, что лежит в пятидесяти километрах от комнаты, где Гарибальди обречен смотреть на мир прищуренными глазами. Этот разговор-воспоминание будет идти о реке Пре, вытекающей из Великих озер.
Однажды осенним вечером мы, нагрузив рюкзаки, ушли из деревенского дома на станцию узкоколейки. Пески похолодали к ночи. Знакомая синяя звезда взошла над краем леса.
Как всегда, начался спор: что это – Юпитер или какая-нибудь другая звезда? Она несла свой мерцающий огонь над темными вершинами сосен, песчаными холмами, заросшими вереском, над тесовыми крышами и скворечнями – над всем этим лесным краем, несла, прокладывая свой медленный путь среди созвездий и как бы подчеркивая ясность и прохладу ночи.
В вагоне узкоколейки было темно и тесно. Только луна, поднявшаяся к полуночи, мелькала позади сосен и освещала медным огнем лица пассажиров.
Рядом сидела девочка лет двенадцати в накрахмаленном розовом платье, с розовыми лентами в косах, в розовом платке на казавшихся розовыми волосах. Даже глаза ее блестели от луны восторженным розовым светом. Она возвращалась в деревню из областного города, где гостила у брата – директора ремесленной школы. Она рассказывала тоненьким, тоже розовым голосом о всех кинокартинах, какие видела в городе, особенно об одной – название ее она позабыла, – где «к карете привязали лошадей и они поволокли каких-то нарядных тетенек в гости».
– А ты видела картину про композитора Глинку? – неожиданно спросил из темноты хриплый мужской голос.
– Должно, видала. Только у меня в голове Еве переболталось, и я уже не помню.
– А чья музыка к этой картине? – строго спросил тот же голос. – Не знаешь? Самого Глинки. А, к примеру, есть опера «Хованщина» с музыкой замечательной. Так ее написал композитор Мусоргский. Это молодежи следует знать.
– Где там знать! – ответила пожилая женщина, все время щупавшая у себя под ногами мешок с луком. – Всего не перезнаешь. Моготы не хватит.
– Пустые слова!
– Вот вы говорите, – лукаво сказал старичок, все время дремавший и вдруг проснувшийся, – про композитора Мусоргского. Был с ним у нас в Коростове один случай…
– С кем это – с ним?
– Да я и.говорю, с композитором Мусоргским. Половодье в запрошлый год было огромное. Ока разлилась на семь километров. Ночи, конечно, черные. Такая темнота – никаким глазом ее не просверлишь! А рулевой, видать, слегка выпил. Сбился с фарватера и посадил его на бугор в лугах. Да так крепко: три недели тащили-тащили, стащить не смогли. Так он и обсох на лугах. Год простоял, до нового разлива. Только полой водой его и подняло.
– Ты что-то закручиваешь, дед, непонятное, – сказал знаток композиторов. – Со сна ты, что ли, бормочешь?
– Верно говорит! – закричал из темноты молодой голос. – Выл такой случай с пароходом «Композитор Мусоргский». Я сам видал. Стоит в лугах пароход, а вокруг него разные цветы цветут. Прямо смех!
– Кому смех, – пробормотал старик, – а рулевой заработал на этом деле судебный приговор.
– За дело! – сказала женщина с мешком лука. – Не губи пароход! Им, мужикам, когда напьются, все трын-трава. Пароход небось машина государственная. А он, пьяный вахлак, крутит колесо одним пальцем. Глаза бы не глядели на дураков этих водочных!
– Нынче пьяный в редкость, – примирительно заметил от дверей невидимый человек, затаптывая цыгарку. – Нынче пьяного у нас в колхозе днем с огнем не сыщешь. Протрезвел народ. И работает шибче.
– За других не скажу, а я свои трудодни соблюдаю, – тотчас ответила пожилая женщина и снова пощупала мешок с луком; стало слышно, как захрустела сухая луковая шелуха.
– Твой лук? С усадьбы?
– Ну да, мой. Личный.
– На ярмарку, что ли, везешь? В Клепики?
– На ярмарку.
– То-то я гляжу, – заметил знаток композиторов, – что полон вагон цыган. Тоже в Клепики на ярмарку тянут.
– Ой, красавец ты писаный! – пропела грудным голосом цыганка, стоявшая у окна, и зажгла спичку, чтобы закурить. – – Весь наш табор – всего шесть человек. А тебе уже тесно…
Свет спички осветил синие волосы цыганки.
– Наша жизнь кочевая, – вздохнула цыганка. – Она как сон: сызнова никогда не приснится.
– Удивительный народ! – тихо сказал знаток композиторов и наклонился ко мне: – Еду я как-то в Сасово. Весь вагон – битком, и все с тяжеленными мешками. А рядом сидит молодая цыганка с девочкой на руках. Красавица цыганка! Вещей у нее никаких, только узелок. Что-то такое ничтожное завязано в платке. Девочка проснулась, хотела было заплакать. Тогда цыганка эта самая развязывает узелок. Я заглядываю, а в нем только кусок хлеба да три больших георгины. Дала девочке георгину, вроде как игрушку, – и та затихла, начала цветком играть.
– Любовь имеют к таким предметам, – заметил старик.
Цыгане вышли на площадку, поговорили о чем-то, и неожиданно низкий женский голос запел так сильно, что заглушил стук буферов и шум веток, хлеставших по стенкам вагона. Цыганка пела давно позабытуюКак цветок голубой среди снежных полей,Я увидел твою красоту…
Вагон притих. Леса неслись мимо, омытые лунным светом. В глубине заросших дорог лежал, белея, туман.
По тому, как все молча слушали песню цыганки, было ясно, что нет человека в вагоне – кто бы он ни был: пильщик ли, колхозный ли конюх, девочка в розовом платье или старик, столько перевидавший в жизни, что в глазах его осталась только ласковость ко всему, – нет человека, который не испытал бы этого ощущения красоты и ожидания встречи с нею.
– Да, – сказал конюх, когда цыганка перестала петь, – была у меня жена Таня, тоненькая, как струнка…
Конюх осекся и замолчал. Так никто и не узнал, что случилось С его женой. И никто не решился спросить конюха о Тане, даже любопытная пожилая женщина с мешком лука. Она только вздохнула и, низко наклонившись, осторожно вытерла оба глаза концом черного головного платка.
Мы сошли поздней ночью на полустанке Летники. По краям дороги слабо шумел березовый перелесок. С болот волнами наносило холод.
Шли мы долго, мерно, как в походе. Через два часа небо на востоке начало наливаться чистой и слабой синевой. Там, далеко над лесами, зарождалась заря. И на этой смутной заре еще пронзительнее, чем ночью, пылала звезда.
С каждым километром нарастала глушь. Мы медленно входили в обширное пустынное полесье.
Когда совсем рассвело, мы сели отдохнуть на обочине. Молодая осина дрожала над головой лимонными нежными листьями. Они тихо слетали, запутывались в паутине, в кустах волчьей ягоды.
– Совершенно нестеровская Россия, – сказал вполголоса кто-то из нас.
Мы привыкли говорить «левитановские места» и «нестеровская Россия». Эти художники помогли нам увидеть свою страну с необыкновенной лирической силой. Нет ничего плохого в том, что к зрелищу этих речушек и ольшаников, бледного неба и лесных косогоров всегда примешивается капля грусти, может быть оттого, что каждая встреча с этими местами – вместе с тем и разлука с ними. Нам грустно, что мы не в силах превратить это мимолетное осеннее утро в бесконечный шелест сухого золотого листа, в бесконечный блеск прохладных озер, в бесконечный хоровод легких, как дым, облаков.
С крутого песчаного холма открылась внизу пойма неизвестной реки. За ней подымались в небо сосновые боры, кремли дремучих лесов. На их краю виднелась деревня и стояла во мгле, как видение, очень высокая, почерневшая от времени деревянная церковь.
Туман лежал в пойме синеватой водой. Только вершины стогов темнели над ним маленькими островами.
Мы медлили. Никому не хотелось двигаться. Деревня за рекой еще спала. Ни один дымок не подымался над крышами. Не было слышно ни мычания коров, ни петушиных криков. Казалось, перед нами лежала а глубокой своей тишине заколдованная земля. Вот такими, должно быть, представляли себе наши пращуры бревенчатые погосты из своих крестьянских сказок, те погосты, где годами сидели за пряжей печальные красивые девушки и дожидались любимых.
Медленно поднялось большое солнце, размытое, цвета соломы. На краю деревни протяжно запел пастуший рожок. Заколдованный край просыпался.
Мы вскинули рюкзаки и пошли через росистую равнину к деревне, Сладко пахло багульником. И все пел и пел, приближаясь к нам, пастуший рожок.
На околице мы встретили пастуха. Он гнал стадо коров. У каждой коровы бренчал на шее медный «болтун».
– Вот это дело! – воскликнул.пастух, снял шапку и поклонилбя, – Спасибо, друзья, что ружья с собой захватили. Жизни от волков нет. Почитай, каждый день телков режут. Охотники в наш край редко заглядывают.
– Это почему же?
– Глушняк, мшары. Добраться до нас затруднительно. Мы последние, Дальше деревень нет на сто километров. Один лес.
– Какая это деревня?
– Называется она по-разному. По-новому – Гришино, а по-старому – Заводской Посад. Туг при государе Петре был железный завод.
Гришино оказалось обыкновенной деревней. Так, очевидно, о ней было бы сказано в любом описании. Но в этой ее обыкновенности была спокойная и знакомая прелесть: в резных наличниках на оконцах, в высоких крылечках, в ягодах калины над частоколами, в старых бревнах, сваленных у каждых ворот, в сварливых огненных петухах, в серых глазах женщин – то строгих, то застенчивых, то ласковых, в осторожной походка хозяек, когда они несут на коромыслах полные ведра, в кудрявой герани, расцветающей из банок тушонки, в ребятах с волосами, выгоревшими до цвета пеньки.
В конце деревни, в уличке, заросшей по твердому белому песку чистой травой, стояла одинокая изба вся в цветах. На крылечке сидел рыжий кот с такими зелеными мрачными глазами, что на них нельзя было долго смотреть. Тотчас за изгородью струилась река с водой цвета крепкого чая, Это была Пра.
Я посмотрел на избу, и у меня сжалось сердце, – так всегда бывает, когда увидишь то, о чем думал много лет. А думал я о том, чтобы поселиться в такой вот чистой избе, в лесном пустынном краю, поселиться надолго и спокойно работать. Только так, мне казалось, могут быть написаны настоящие вещи – неторопливо, обдуманно, а полную меру сил, Мы поднялись на крылечко избы, постучали в оконце. Открыла нам пожилая женщина в белой косынке.
– Пожалуйте в горницу, – приветливо сказала она, не спрашивая, кто мы и зачем к ней постучались. – Я в окошко вас приметила. Гляжу, охотники идут, видать, московские, веселые, образованные. Мы с Алешей прохожим всегда радуемся. Прохожий человек у нас редок.
В горнице было чисто, сухо. Цветы стояли не только на подоконниках, но и на полу и ярко цвели; им было хорошо, должно быть, в этой теплой светлой избе.
– Сейчас Алеша взойдет, он умывается, – сказала женщина. – Двое иху меня, ребят. Алеша да Катя. Алеша – председателем сельсовета, а Катя работает на ватной фабрике под Клепиками. Небось проходили мимо. Там дорога старой ватой уложена. Где болотце, там шоферы старую вату под колеса подкладывают, чтобы машине было легче пройти.
Мы вспомнили, что и вправду шли ночью во странной упругой дороге.
– Это вата и есть! – засмеялась женщина. – Вам невдомек… А вот и он, мой Алеша.
В горницу вошел юноша в кителе с ленточками орденов, в защитных брюках навыпуск и желтых туфлях. Что-то неуловимо изящное было в его движениях, во всем облике. Здороваясь, он наклонил голову с русыми, медного отлива волосами, потом выпрямилчзя, и мы увидели его глаза, совершенно синие и смущенные.
Было что-то знакомое в этом лице. Казалось, что я давно его видел, давно знаю, пока я не сообразил, что Алеша очень похож на Есенина. Я сказал ему об этом. Он усмехнулся:
– Возможно. Мы ведь с ним земляки: оба рязанские. Меня на фронте так и прозвали: «Алеша Есенин».
– А вы любите есенинские стихи?
– Не все. Иные вещи люблю. Например, про «серенький ситец наших северных скромных небес».
Так в деревенской глуши завязался разговор о поэзии с председателем сельсовета Алексеем Софроновым. Потом заговорили о лесах, гришинском колхозе, обо всем этом крае.
– Колхоз у нас богатый, – сказала старуха. – Видали коров? Сытые, молочные. Ярославки. Тут пастбища густые, медоносные. У нас и артель работает. Алеша ее основал. Дуги делают, колеса, бочонки, ульи. Край обильный! Одних грибов сколько! Здесь их не то что собирать – косить можно. Верное слово!
– Да, – заметил Алеша, – край удивительный. Сюда безнаказанно приезжать нельзя.
– А что?
– Да ничего… Увидите сами. Он вам долго еще будет сниться в Москве, этот край. Я здесь вырос, да вот до сих пор не привык.
– К такой прелести разве привыкнешь! – тотчас согласилась Алешина мать.
В горницу торопливо вошла с крылечка суетливая старушка в панёве, остановилась у порога, быстро вытерла рот сморщенным кулачком.
– О господи! – запела она плачущим голосом. – Добрым людям гостей бог посылает, а я к тебе, Леша, со своей нудой да бедой.
– Что случилось, бабка Настасья?
– Взял бы ты ремень да выпорол моего Саньку. Я с ним совладать не в силе, мне уже восьмой десяток пошел. Да и грех мне, старухе, малого пороть, хоть он мне и внук.
– За что же его пороть? – спросил Алеша и усмехнулся.
– Как за что? Я, милый, законы хорошо-о знаю. Они недаром писаны. Есть такой закон, чтобы престарелым людям воспомоществование оказывать? Есть! Даже в песне поется: «Старики везде у нас в почете». Сама слыхала, ей-богу! А он чего делает, Санька! На самой заре встанешь и топчешься-топчешься по избе: и воды надо принесть, и печь растопить, и веником пол подмахнуть, и курам пшена подсыпать, и то, и се. Верчение такое, спаси господь! И все я одна. А он, как скинул ноги с кровати, выхлебал баночку молока – только я его и видела, вихрастого. Зальется, враг его расшиби, на цельный день на выгон, кожаный шар ногами гонять. II кто его только выдумал, тот футбол проклятый! Бьют и бьют о зари до зари, подметки себе начисто поотбивали. Носятся как оглашенные и все не то кричат, не то лают: гол да гол! А чему радоваться, ежели человек, скажем, гол как сокол! Нет того, чтобы бабке помочь, а все – гол да гол!
– Это верно, – согласился Алеша. – Крепко наши мальчишки взялись за футбол. Мы их маленько приструним.
– А надысь, как попали шаром по избе, – ой, какой стра-ах! Вся изба затряслась, затрепетала, а кочеток в сенцах как крикнет дурным голосом, как взовьется да головой трах об стреху! Упал, глаза закатил. Я его водой отливала; чуть было не помер в одночасье мой кочеток. Сам посуди: как не испугаться? Тут и человек сомлеет насмерть, не то что животная тварь. Значит, приструнишь?
– Не беспокойся.
– Ну, спасибо!
Старушка низко поклонилась, вышла на улицу и тотчас за порогом закричала, поспешая к своей избе:
– Санька! Подь сюда! Я те покажу, как футболом займаться, лодырь ты этакий!
Мы посмеялись над горем бабки Настасьи и распрощались с хозяевами, Алеша проводил нас до мостков через Пру и сказал, чтобы мы непременно шли на двести семьдесят третий лесной кордон: места там замечательные.
За Проймы поднялись на песчаный изволок и вошли в лес. Он встретил нас сыроватой тишиной, синью и блеском неба над вершинами. Ветра не было. Лимонницы летали над полянами.
Чем дальше, тем лес делался глуше, торжественнее, сумрачнее. Неожиданно под обрывом блеснула вода – старица Пры, заросшая последними белыми лилиями и водяной гречихой. За ней лесная дорога уходила вверх широким поворотом, пересеченным теплыми полосами света.
Постепенно слух привык к тишине, и мы начали различать неясное курлыканье журавлей, стук дровосека-дятла.
Мы знали, что где-то здесь, вблизи дороги на кордон, есть глубокое озеро Шуя. Каждую низину в лесу, заросшую непролазным темным ольшаником, мы принимали за берега этого озера. Но оно открылось неожиданно под крутым холмом между сосен, окруженное порослью молодых осин и старой, черной ольхи.
Круглое, как чаша, с прозрачной и совершенно спокойной водой, оно отражало весь этот синий и мглистый, струящийся день, всю его глубину и свежесть. Каждый куст остролиста, белые, почти прозрачные цветы водокраса, коряги, заросшие хвощом, застенчивые незабудки во мху, стаи мальков, уткнувшихся носами в подводные корни, – все это казалось таким сказочным, что мы говорили вполголоса. Будто нас впустили в дремучий светлый край, где можно увидеть, как на глазах раскрываются лесные цветы, как с них медленно стекает на подставленную ладонь роса, как шевелится бурый лист и из-под него прорастает, выпрямляя плечи под своим маленьким коричневым армячком, коренастый гриб боровик.
Тень от нависших деревьев падала на воду. Вода в тени казалась необыкновенно глубокой, черной. Палый лист осины лежал на этой воде как драгоценность, небрежно брошенная юной осенью. Осень была совсем еще молодая, еще в самом начале своей недолгой жизни.
Если бы можно было замедлить ход времени, чтобы долго голубел над озером этот тихий свет и этот удивительный день, чтобы можно было долго следить за тенью птиц на воде, за едва приметным блеском, подымавшимся к небу!
Сразу стало понятным значение слова «совершенство». И вместе с тем началось легкое сожаление. О чем? О том, что ни при каких усилиях человек не сможет передать очарование этого дня, этих вод, трав, великой тишины, как и все очарование того, что творится сейчас в его душе. И еще подымалась досада на то, что все это ты видишь только один, тогда как это должны бы видеть все любимые и милые люди. Когда человек счастлив, он щедр, он стремится быть проводником по прекрасному. Сейчас мы были счастливы, но молчали, потому что восторг не терпит никаких возгласов и внешнего выражения.
На поляне вблизи озера стояла скамейка, сколоченная из березовых жердей. Рядом с ней на шестке была прибита табличка: «Место для курения». Внизу было написано карандашом: «Смотрите, берегите этот лес. Разводить огни запрещается строго. Объездчик Алексей Желтов».
Вокруг скамейки, сколько мы ни смотрели, валялся только один побуревший окурок – так безлюдна была эта дорога. И тем трогательнее показалась эта забота о лесе в тех местах, где, быть может, за неделю пройдут два-три человека. Дорога, судя по карте, терялась километрах в пяти, в чащах за озером Линёвым.
Кордон стоял на бугре над тихой заводью Пры. На крыше его был приколочен дощатый щит с черным номером по белому полю – «273». По этому номеру определялись самолеты, пролетавшие над лесами.
Лесник Алексей Желтов, обветренный старик в выгоревшей зеленой фуражке со значком объездчика на околыше – двумя медными дубовыми листочками, сидел на лавочке около избы и читал газету, как бы не видя нас, пятерых человек, медленно подходивших к кордону.
Это была явная хитрость. Он нас давно уже заметил в окошко и нарочно вышел с газетой на порог. Всем своим видом Алексей Желтов (он же «дядя Леша») хотел показать, что прохожие люди здесь не в диковинку и что он, как человек обходительный и повидавший в жизни всякие виды, совершенно не любопытствует, кто мы, зачем пришли и куда направляемся.
Разговор, начавшийся с дядей Лешей, был уже нам знаком – хитрый разговор, сбивающий с толку неопытных горожан.
Поговорили о засухе, о том, что где-то – надо думать, в стороне Криуши – горит лес, об урожае, новостях из газеты, ярмарке в Клепиках, но ни слова о ночлеге и о том, кто мы такие. Об этом полагалось заводить расспросы не сразу, помедлив, – таков был нерушимый обычай в этих местах.
Поговорили, напились воды из родника под сосной, похвалили воду, покурили, и только тогда разговор перешел к главному: можно ли поселиться на несколько дней в избе у дяди Леши и согласится ли его старуха нам готовить?
– Сеновал большой, сена много, живите сколько хотите. Я всегда гостям рад. А вот насчет пропитания – это дело не мое. Надо спросит! мою старуху, бабку Аришу. Уж и не знаю, согласится ай нет. Дело ее, хозяйское. Пожалуйте в избу, там и рассудим.
Бабка Ариша, сухая, маленькая старуха с черным строгим лицом, конечно, сказала, что упаси бог, как это можно готовить на пятерых человек! Совсем это немыслимое дело! А вдруг она не угодит, как в запрошлый год не угодила лесничему. Сварила уху, а он сказал, что больно жирная. Может, и посмеялся над ней, а она этого до сих пор не забыла. Это для хозяйки обидно. Самовар – дело пустое. А вот кулеш, бог его знает, как сготовишь. Видать, люди городские, балованые, а у нее кулеш хоть и густой, да простой.
На все наши уговоры бабка упрямо отвечала:
– Да уж и не знаю, как быть…
Потом она неожиданно всполошилась:
– А чего ж вы мешки ваши да ружья у порога кинули? Несите в избу. Ты что сидишь? К легкому табаку пристраиваешься? – прикрикнула она на старика. – Вещи подсоби внести. Люди притомились, всю ночь шли. Тебе только бы дорваться до разговору. Поживут у нас подольше – успеешь языком намолоть.
Она начала торопливо вытирать дощатый стол.
– Я сейчас вам молочка пока что принесу. Какого хотите: утреннего или вечернего? Самовар раздую, язей зажарю – старик их нынче поймал. А там видно будет.
Обычай был соблюден, и с этой минуты бабка Ариша засуетилась, захлопотала и начала заботиться о нас как о родных детях. Глаза ее светились лаской и волнением, и она все повторяла:
– Господи, три года никто не гостил! Спасибо вам, что надумали у нас на кордоне пожить. Вот мои сыны да дочки обрадуются! Они от людей совсем отбились. Я сама в этой глухомани всю жизнь просидела. Дочки у меня славные, красивые! И сыны тоже. Сейчас они все в лесу, на обходе. Отцу помогают. У нас обход бесконечный: одному человеку никак не управиться.
Мы прожили несколько дней на кордоне, ловили рыбу на Шуе, охотились на озере Орса, где было всего несколько сантиметров чистой воды, а под ней лежал бездонный вязкий ил. Убитых уток, если они падали в воду, нельзя было достать никаким способом. По берегам Орса приходилось ходить на широких лесниковских лыжах, чтобы не провалиться в трясины.
Но больше всего времени мы проводили на Пре. Я много видел живописных и глухих мест в России, но вряд ли когда-нибудь увижу реку более девственную и таинственную, чем Пра.
Сосновые сухие леса на ее берегах перемешивались с вековыми дубовыми рощами, с зарослями ивы, ольхи и осины. Корабельные сосны, поваленные ветром, лежали, как медные литые мосты, над ее коричневой, но совершенно прозрачной водой. С этих сосен мы удили упористых язей.
Перемытые речной водой и перевеянные ветром песчаные косы поросли мать-и-мачехой и цветами. За все время мы не видали на этих белых песках ни одного человеческого следа – только следы волков, лосей и птиц.
Заросли вереска и брусники подходили к самой воде, перепутываясь с зарослями рдеста, розовой частухи и телореза.
Река шла причудливыми изгибами. Ее глухие затоны терялись в сумраке прогретых лесов. Над бегучей водой беспрерывно перелетали с берега на берег сверкающие сизоворонки и стрекозы, а в вышине парили огромные ястребы.
Все доцветало вокруг. Миллионы листьев, стеблей, веток и венчиков преграждали дорогу на каждом шагу, и мы терялись перед этим натиском растительности, останавливались и дышали до боли в легких терпким воздухом столетней сосны. Под деревьями лежали слои сухих шишек. В них нога тонула по косточку.
Иногда ветер пробегал по реке с низовьев, из лесистых пространств, оттуда, где горело в осеннем небе спокойное и еще жаркое солнце. Сердце замирало от мысли, что там, куда струится эта река, почти на двести километров только лес, лес и нет никакого жилья. Лишь кое-где на берегах стоят шалаши смолокуров и тянет по лесу сладковатым дымком тлеющего смолья.
Но удивительнее всего в этих местах был воздух. В нем была полная и совершенная чистота. Эта чистота придавала особую резкость, даже блеск всему, что было окружено этим воздухом. Каждая сухая ветка сосны была видна среди темной хвои очень далеко. Она была как бы выкована из заржавленного железа. Далеко было видно каждую нитку паутины, зеленую шишку в вышине, стебель травы.
Ясность воздуха придавала какую-то необыкновенную силу и первозданность окружающему, особенно по утрам, когда все было мокро от росы и только голубеющая туманка еще лежала в низинах.
А среди дня и река и леса играли множеством солнечных пятен – золотых, синих, зеленых и радужных. Потоки света то меркли, то разгорались и превращали заросли в живой, шевелящийся мир листвы. Глаз отдыхал от созерцания могучего и разнообразного зеленого цвета.
Полет птиц разрезал этот искристый воздух: он звенел от взмахов птичьих крыльев.
Лесные запахи набегали волнами. Подчас трудно было определить эти запахи. В них смешивалось все: дыхание можжевельника, вереска, воды, брусники, гнилых пней, грибов, кувшинок, а может быть, и самого неба… Оно было таким глубоким и чистым, что невольно верилось, будто эти воздушные океаны тоже приносят свой запах – озона и ветра, добежавшего сюда от берегов теплых морей.
Очень трудно подчас передать свои ощущения. Но, пожалуй, вернее всего можно назвать то состояние, которое испытывали все мы, чувством преклонения перед не поддающейся никаким описаниям прелестью родной стороны.
Тургенев говорил о волшебном русском языке. Но он не сказал о том, что волшебство языка родилось из этой волшебной природы и удивительных свойств человека.
А человек был удивителен и в малом и в большом: прост, ясен и доброжелателен. Прост в труде, ясен в своих размышлениях, доброжелателен в отношении к людям. Да не только к людям, а и к каждому доброму зверю, к каждому дереву.
Недаром дядя Леша все беспокоился, вздыхал и ждал дождя: уж очень пересохли леса, и как бы от любого пустого случая не вспыхнул пожар.
Когда на третий день лес затянуло с утра серой дождевой дымкой, дядя Леша радовался и бормотал:
– Дождик-то! А! Хорош дождик! А то лес как трут: того и гляди, сам загорится!
По ночам вокруг кордона трубили лоси, и дядя Леша сокрушался, что слабовато в этом году трубят, меньше стало лосей, уж очень их режут волки. И решил послать сына в Клепики к тамошним охотникам с просьбой устроить облаву на волков.
К вечеру первого дня вернулись из лесного обхода две дочери и два сына дяди Леши. Мы застали их, смущенных и взволнованных, когда они умывались на маленьком озерке рядом с избой.
Девушки неистово терли мелом и без того ослепительные зубы, а вечером вышли в горницу к чаю в шуршащих праздничных платьях, смуглые, золотоволосые. Даже опущенные ресницы не смогли скрыть блеска их глаз.
Старший сын был сдержан, очень вежлив, говорил с нами о Москве, об «Угрюм-реке» Шишкова (он только что прочел эту книгу), о своей затаенной и уже осуществившейся мечте: он уезжал на днях во Владимир учиться в лесной техникум. А младший молчал, улыбался и тихонько наигрывал на гармонике:Старинный вальс «Осенний сон»Играет гармонист…
Девушки скоро перестали стесняться. Они сидели за столом, подпершись ладонями, жадно слушали наши разговоры и пристально смотрели на нас туманными радостными глазами. Должно быть, мы казались им пришельцами из большого, смертельно заманчивого мира, куда они рано или поздно все равно попадут.
Дня через два выяснилось, что дядя Леша с семьей не единственные обитатели этой глухой стороны.
Мы ушли далеко вниз по Пре на рыбную ловлю. Ближе к сумеркам на песчаный обрыв над рекой осторожно вышли из леса два маленьких босых мальчика. Они несмело подошли к нам, сказали: «Здравствуйте!» – и быстро сели в траву, чтобы не пугать рыбу.
– Ну, как? – шепотом просипел старший мальчик. – Клюет?
– Клюет понемногу.
Мальчики поглядели друг на друга, помолчали, потом старший ткнул младшего в бок, а младший в ответ ткнул старшего. Мальчики немного посидели неподвижно и снова толкнули друг друга.
– Вы откуда взялись?
– С выселок.
– С каких выселок?
– С Жуковских. Это в лесу. За четыре километра от дяди Леши.
– Сколько же у вас дворов на выселках?
– Два двора и есть.
– А куда вы идете?
– Да к вам.
– Как так к нам?
Мальчики фыркнули, посмотрели друг на друга и снова толкнули один другого.
– Ты скажи, – прохрипел старший.
– Нет, ты. Ты старший. А я маленький.
– Как так к нам? – снова спросил я.
– Письмо тебе принесли.
Тайна явно сгущалась.
– От кого?
– От охотника. Тоже московский. Он у нас на выселках живет.
Старший мальчик вытащил из-за пазухи записку и протянул мне. Записка была написана карандашом:
«Узнал о появлении в этих дебрях москвичей. Очень рад и очень прошу пожаловать сегодня вечером ко мне на выселки на кружку чаю». Подпись была незнакомая.
– Как вы нас здесь нашли?
– По следам. Тут недалеко. Мы километров десять всего к вам и бегли.
– Что ж вы сидели полчаса и молчали? И письма не отдавали?
– А мы заробели, – смело признался старший.
После этих слов мальчишки разом встали и побежали в лес. Младший все оглядывался на бегу и спотыкался.
Вечером мы пошли к таинственному охотнику. Захватили с собой фонарь «летучую мышь».
Ночной туман уже лег на сырую тропу. Холодная луна поднялась над чащами и поплыла своим вековечным путем. Низко летали совы. Фонарь освещал только землю: корни деревьев, траву, темные лужи. Потом впереди появилось маленькое дымное зарево, и мы вышли к двум избам, терявшимся в темноте. Около изб горели костры.
Оказалось, что жители выселок жгут костры всю ночь, чтобы отпугнуть волков.
Нас встретил сухощавый пожилой охотник, настоящий отшельник. Он напоил нас крепким чаем в пустой черной избе, куда все время старался пролезть из сенцев теленок.
Охотник оказался работником Торфяного института. Несколько лет назад он приезжал в эти места с небольшой экспедицией в поисках новых торфяных массивов, и с тех пор этот край так ему понравился, что он ездит сюда в отпуск каждую осень. Мы были, по словам охотника, первыми москвичами, попавшими в эти места за последние несколько лет«Как же было не зазвать нас к себе!
Обратно шли ночью. Глухо и жалобно кричала в болотах какая-то птица. Луна клонилась к земле. Ртутный се свет проникал в чащи, где все трубил, печально звал кого-то лось.
На кордоне горел свет в оконце: нас ждали. Дядя Леша читал за столом, нацепив железные очки, толстый календарь за 1949 год. А девушки сидели, обнявшись, на скамье около русской печки и тихонько, покачиваясь, напевали:На прощанье шаль с каймоюТы на мне узлом стяни.Как концы ее, с тобоюМы сходились в эти дни…
Я проанулся на сеновале поздней ночью. Луна зашла. Сквозь щели в тесовой крыше светились звезды. Далеко, казалось на конце земли, подвывали волки. Хорошо было, зарывшись в теплое сено, слушать звуки этой ночи, представлять себе это полесье, темные дороги, быструю и холодную реку, где на берегу крепко спят перевозчики и только. Дотлевают в тумане угли костра.
Утром мы ушли в Спас-Клепики. Был тихий светлый день. Ржавые листья слетали на землю. Лесной край уходил в нежную мглу, рядился в прощальный туман. И с. переливчатым звоном протянул высоко над нами первый косяк журавлей.
Читать сказку "Константин Паустовский — Рассказ Конста" на сайте РуСтих онлайн: лучшие народные сказки для детей и взрослых. Поучительные сказки для мальчиков и девочек для чтения в детском саду, школе или на ночь.skazki.rustih.ru














